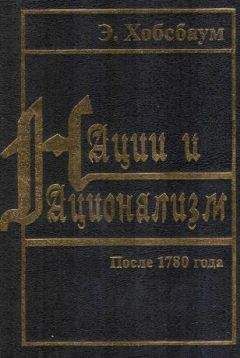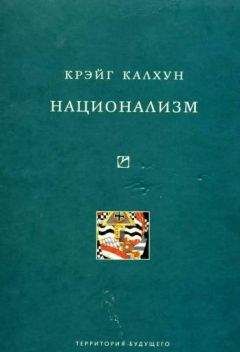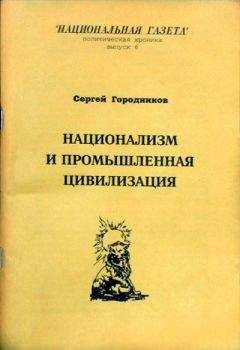Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
В этих смысловых оттенках, которые ни одна из сторон не имела желания особенно акцентировать, проявляется разница антиаристократизма славянофильского, с одной стороны, и того, чьим выразителем в данном случае оказывается Беляев, который по существу куда ближе в данном случае к взглядам М. П. Погодина – идее демократического царства, где равенство обретается в равном бесправии перед монархом. Впрочем, маловероятно, чтобы представленный текст не удовлетворил Самарина по этим основаниям – с одной стороны, он был представлен слишком поздно, когда реформаторское оживление в отношении земств сменилось после каракозовского выстрела неопределенным «консерватизмом», с другой – историческая конкретизация, осуществленная Беляевым, произошла в ущерб концептуальной отчетливости в первую очередь столь ценимого славянофилами противопоставления земского и государственного начал: в эмпирическом материале Беляева они упорно срастались в слабо дифференцированную массу, лишь время от времени сопровождаемую программными уточнениями, не находящими опоры в тексте, до некоторой степени подтверждая злой отзыв Б. Н. Чичерина, писавшего в мемуарах о Беляеве как об архивном труженике, «который всю свою жизнь рылся в древних грамотах, но был совершенно лишен способности их понимать» (Чичерин, 2010a: 338) [70] .
Сам Беляев оставался близок к славянофильскому кругу вплоть до своей кончины, а после его смерти именно А. И. Кошелев, в свое время издававший и редактировавший «Русскую беседу», в которой публиковался Беляев, взял на себя не только материальные издержки по подготовке и опубликованию текста «Лекций по истории русского законодательства», но и уговорил «наследников собрать все собственноручные тетради лекций покойного» и приискал ученика Беляева, С. Петровского, согласившегося выполнить работу по редактированию и изданию (Беляев, 1999:21). Беловая рукопись «Судеб земщины.» с правкой И. Д. Беляева осталась в архиве Ю. Ф. Самарина, уже после кончины которого, в связи с общественным оживлением начала века, вызвавшим новый всплеск интереса к началам представительства в русской истории и их славянофильской трактовкой, была предоставлена для опубликования Д. Ф. Самариным. В этом бережном отношении к наследию ученого также проявляется характерная черта славянофильства – не только в теоретическом интересе к прошлому, но и к умению сохранять память о собственном прошлом, к бережению традиций в самом непосредственном, бытовом смысле.
2.2. Александр Герцен
Советский Герцен
Герцен с молодых лет мыслил себя существом исключительным – тем, чья жизнь достойна увековечения и над чьим опытом и размышлениями будут задумываться еще много поколений после него. Такая претензия показалась бы странной и смешной, не осуществись она вполне – подобно тому, как мы, читая «Божественную комедию», ничуть не удивляемся строкам Данте, в которых он помещает себя в круг величайших поэтов, поскольку для нас, как, впрочем, уже для ближайших потомков Данте, ясна банальная справедливость подобного решения – и автор лишь фиксирует данность. Впрочем, тот же casus Dante показателен и в ином отношении – история восприятия Данте, попыток осмыслить его произведения и его жизнь (в разных сочетаниях, используя одно как «ключ» к другому, и наоборот) говорит нередко больше о времени, когда пишутся тексты «о нем», чем о временах Данте. Так и в нашем случае речь пойдет о Герцене как «символическом персонаже» – точке схода разнообразных дискуссий, персонаже, через которого нередко больше раскрывается в позициях дискутирующих, чем в объекте их разговора.
Герцен в русской мысли с самого начала его посмертной истории оказался трудным персонажем, не включаемым ни в какие традиционные схемы: народникам и их преемникам он был близок по многим провозглашаемым политическим целям, служил иконой как революционер и эмигрант, но в то же время его мировоззрение было отделено от них пропастью: что общего между мыслителем, фактически оказавшимся одним из первых представителей «экзистенциалистского» поворота (при всей условности данного термина), и вполне типичными носителями позитивистских, безнадежно вторичных философских идей русского народничества? Русский либерализм в целом высказался вполне в духе Чичерина – последующие формулировки были, как правило, мягче, исходя из «уважения к заслугам», но размежевание было фундаментальным и непреодолимым: для русского либерализма «Европа» непременно оставалась «чаемым образом русского будущего» (в котором можно было сомневаться или отчаиваться, но не отрекаться от желаемого), тогда как для Герцена сама «Европа» перестала быть идеалом – то, что выступало объектом мечтаний либералов, в герценовской перспективе оказывалось отвергнутым радикально и последовательно. Впрочем, и для революционеров, и для либералов привлекательным оказывался «пафос личности», предельно ярко выраженный Герценом (впрочем, для революционеров он выступал преимущественно в плане критики существующего, а для либеральной традиции его удовлетворительным выражением выступал «правовой строй», нечто едва ли не прямо противоположное анархическому духу Герцена, эстетическому в своих основаниях). Критика «Европы», «Запада» делала Герцена привлекательным для русских консерваторов разных оттенков – от К. Н. Победоносцева до Н. Н. Страхова, но по вполне понятным причинам это была преимущественно «негативная» привлекательность: родственность в отвергаемом и единство в готовности возложить свои надежды на Россию при почти полном разномыслии в содержании этих надежд. Герценовский образ чаемой России всегда оставался парадоксальным соединением аграрной утопии и воспоминаний об аристократической вольнице екатерининской эпохи, украшенной более глубокими интеллектуальными запросами последующих царствований. Его анархизм слишком крепко сидел в дворянской Москве времен его молодости и воспоминаний о прошлом (к эпохе своих дедов он всегда чувствовал глубокое расположение), живя стремлением стать универсальным.
Парадоксальность Герцена, его невключаемость ни в одну привычную идеологическую рамку, отказ от глобальных схем и радикальный скептицизм по отношению к попыткам найти гарантию своих чаяний в логике истории обеспечили взлет интереса к нему с 1905 года, когда снятие цензурных запретов совпало с моментом, в который декадентство и символизм перестали быть достоянием небольших кружков и стали общим воздухом эпохи. На смену «плоскому небу» XIX века пришла декорация бездонных глубин – «бездна», «воля», «тайна», «решимость», «отчаяние», наскоро проглоченное ницшеанство, Метерлинк и Ибсен вместе с Бодлером и Верхарном сочетались с «революционизмом», располагающимся на перекрестке, связывающем эстетизм с верой в науку, границы которой в сознании культуры стремительно растворялись, включая в себя и алхимические опыты, и оккультные практики – все это уже в таком состоянии, когда самим участникам непонятна грань, отделяющая игру от принятия всерьез и где переход от моды к тому, что поглощает целиком, невнятен. Герцен в этой атмосфере оказывается ключевой фигурой для «нового народничества», «русским Ницше» и в то же время социалистом, скептиком и революционером, эстетиком и общественным деятелем – тем, с кем можно себя соотнести вплоть до попытки отождествления. Иванов-Разумник, как всегда банализируя, создает компилятивную «Историю русской общественной мысли», положив в основание герценовскую дихотомию мещанства и интеллигенции и прогоняя через нее всю отечественную интеллектуальную традицию. Сергей Булгаков открывает в Герцене религиозного мыслителя (и его находка, закрепленная в канонической «Истории русской философии» В. Зеньковского, получит большое будущее).
Если раньше парадоксальность, несистемность мысли выступали недостатком, то в новой ситуации они оказываются наибольшим достоинством Герцена, делающим его созвучным новым преобладающим настроениям, тем, что получат неопределенное обозначение «философии жизни». Если раньше каждая из интеллектуально значимых групп дистанцировалась от Герцена, то теперь, напротив, большинство из них стремятся экспроприировать его – и большевики не составляют исключения. Ленин в нескольких проходных статьях (в первую очередь в юбилейной, написанной к 100-летию Герцена для газеты «Социал-демократ» заметке «Памяти Герцена») включит его в родословную русского революционного движения в качестве «дворянского революционера» – событие, приобретшее значимость в последующем, даровав Герцену индульгенцию и сделав его легитимным объектом сочувственного изучения и прославления в советскую эпоху.
Репрезентация Герцена в 1920-е годы остается заданной досоветской логикой «освободительной» революционной историографии в ее конфликте с либеральной. Причем сам этот конфликт в результате оказывается двойственным – с одной стороны, внешнее отмежевание от либерализма, а с другой стороны – схемы и еще чаще конкретные интерпретации либеральной историографии принимались на практике ее оппонентами вследствие ее большей силы: либеральная историография была профессиональной, в отличие от «революционной», и родственной ей, почти всегда имевшей характер «попутного», «побочного» занятия.