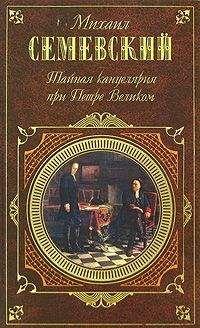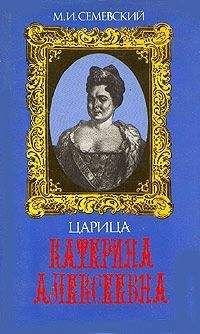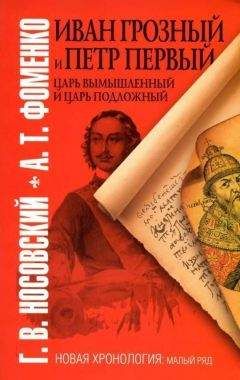Семеновский Иавнович - Тайная канцелярия при Петре Великом
Вид несчастного еще более раздувал гнев царицы.
Старушка, не чувствуя усталости, крайне занятая и оживленная своим делом, все еще находила, что мщение ее неполно; чего-то еще недостает; она жаждала чего-то нового и, в ожидании его, принялась за старое: ручка монархини и крепкая трость вновь загуляли по ли… но нет, то не было уже лицо: в громадной язве не было даже и подобия образа человеческого.
Если не без ужаса и негодования цепенеем мы пред страшною картиною, существование которой не может быть оправдано ничем (истина — всегда истина, в какой бы век она ни существовала), то зато и не без удовольствия находим в подлинных документах указания на то, что некоторые служители царицы, как, например, Кондрат Маскин, Никита Иевлев, Тимофей Воейков, Федор Воейков, Феоктист Иевлев, были поражены ужасом (если не состраданием) и, не вынося страшного зрелища, «многократно» выходили на чистый воздух подышать и освежиться…
Бобровский четыре раза уже посылал с донесениями о «всех действах» царицы к генерал-майору Скорнякову-Писареву, и всякий раз получал в ответ приказание — отнюдь не отпускать с царицей Деревнина. То же говорил Бутурлин.
Пожар головы арестанта заставил дежурного просить более подробных инструкций о том, допускать ли дальнейшие истязания. За этими инструкциями он послал к генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому.
Ударило десять часов вечера. В Тайную приехал генерал-прокурор. Все засуетились. У Деревнина, если он еще не потерял сознания, должна была мелькнуть мысль о спасении; у царицы же — надежда получить наконец арестанта. Прасковья ошиблась… Ягужинский… но позвольте познакомиться с ним поближе.
Павел Иванович, по отзывам современников, лично его знавших, был видный мужчина, с лицом неправильным, но живым и выразительным. В обхождении он был очень свободен, даже небрежен; но эта свобода была весьма в нем естественна, и все были ею довольны. Ягужинский был капризен, самолюбив, но при этом умен, рассудителен, жив. Он в один день делал столько, сколько другой не поспевал в неделю. Прямодушный, он твердо выполнял данное слово до такой степени, что готов был скорее умереть, нежели нарушить обещание. Мысли свои Павел Иванович выражал без лести пред самыми высшими сановниками. Буде первый сановник империи поступал несправедливо, Ягужинский порицал его так же смело и свободно, как последнего чиновника. Сначала денщик Петра, а потом генерал-прокурор Правительствующего Сената, он был одним из первейших любимцев Преобразователя. Государь обыкновенно называл его своим глазом и зачастую говаривал: «Если что Павел осмотрит, то это так верно, как будто я сам видел».
Если похвальные отзывы дюка Лирийского и леди Рондо хоть наполовину справедливы, то понятно, почему и в настоящем случае Ягужинский не уклонился, подобно Скорнякову-Писареву и Бутурлину, от вмешательства в дело Прасковьи, и хоть поздно, но явился на арену не совсем невинных ее развлечений.
— Что ты делаешь, государыня? — заговорил генерал-прокурор, когда пригляделся наконец к окружающим предметам, — что хорошего, государыня, что изволишь по Приказам ездить ночью?
— Отдайте мне Деревнина, — отвечала царица. — Он вор, вор, он покрал у меня казну!
— Без именного императорского величества указу отдать невозможно, — твердо отвечал Ягужинский, отдал приказ увести Деревнина к себе на дом под караул и тут же предложил Прасковье Федоровне оставить Тайную канцелярию.
— Завтра, может быть, я пришлю его к тебе, государыня, — обманчиво уверил Ягужинский, когда царица не прекращала упрашивать и умолять об исполнении ее просьбы.
Наконец огорченная старушка со слабой надеждой и немалой грустью оставила Деревнина и отправилась обратно в свою резиденцию, в село Измайлово. Впереди, сзади и по бокам ехали исполнители ее предначертаний.
Была глубокая полночь, когда вернулась Прасковья в свои хоромы; нежно обняла она ненаглядную свою внучку Аннушку и мирно опочила от трудов.
Вознаградил ли себя за труды водкообливатель и свечеобжигатель Карлус оставшейся полбутылкой пенника — из подлинного дела не видно.
VIII. В ожидании царского приезда
3 октября 1722 года исполнительный каптенармус Бобровский по долгу службы вошел с обстоятельным рапортом о всем случившемся к начальству Тайной канцелярии.
Бобровский ничего не утаил, передал все мелочи трагического события, но героиню его, всемилостивейшую старушку, называл в рапорте не иначе как «благовернейшей государыней»…
В тот же день, в полдень, генерал-прокурор прислал Деревнина назад в казенки Тайной канцелярии.
Попечительное начальство ее, накануне столь любезно предоставившее старушке потешиться, ныне вступило в свои обязанности: на Деревнине приказано: «Бой и жжение описать и лечить его из аптеки». Опись коротко, но довольно красноречиво повествует о том, как соизволила гневаться царственная старушка: «Голова Деревнина, так оказалось по осмотру, избита во многих местах и обожжена местами; также и по носу, и по лицу, и под глазами избито и обожжено, и почернело, и опухло, за которой опухолью не знать и глаз. А руки по запястья обожжены же; на груди против сердца избито и местами красно».
Результатом осмотра было то, что здоровье арестанта найдено далеко не удовлетворительно; Деревнин расхворается, пожалуй, помрет, а вернется государь, захочет им «розыскивать в деле государевом», не найдет его в живых и спросит на них, на начальниках!..
«Господин доктор! — поспешил отписать Скорняков-Писарев, — некоторый колодник, по тайным делам содержащийся в Тайной канцелярии, весьма болен; того ради, объявляю его императорского величества указом, извольте приказать оного колодника осмотреть и приказать лечить, понеже он весьма нужен».
В то же время канцелярия освободила заарестованных по делу о цифирном письме, вняла мольбам ревельского школьника Юрьева, сняла печать и запрещение с его дома и пожитков, наконец, приложила к делу доношение Григория Терского. Лишь только последний заметил, что дело обратилось к исходу более или менее благоприятному, что он может быть покоен: до него не допустят ни допросчиков царицы, ни обязательного обер-полицмейстера, — сообразив все это, Терский постарался заявить все, что только могло служить ему оружием против его недругов. Таким образом, на другой же день после жжения своего зятя Деревнина, он смело предъявил следующее обстоятельство, для дела довольно важное:
«Уведомился я от помянутого Деревнина, — писал Терский, — что государыня царица Прасковья Федоровна просила в Сенате, чтоб на комнату ее величества с царевнами учинить оклад противу окладу, каков учинен был к комнате царевны Натальи Алексеевны. В Сенате без именного его величества указу того не учинили. А через прошение ее величества такую, вышеобъявленную, дачу учинил ей Василий Ершов обще с дьяком Тихменевым, и за то взял себе деньгами и протчим не меньше 7000 руб. Все это явно, — продолжал Терский, — по записным книгам, которые оный Тихменев взял к себе будто для счету, а те книги скрыл, о чем я и доношение на него, Тихменева, в надворный суд подал и в оном будут его, Тихменева, обличать я, Терский, Деревнин, да купчина Антип Моисеев…»
Доношение Терского немножко освещает ту безурядицу, которая царила в хозяйских делах Прасковьи. Чтоб познакомиться с ними поближе и тем получить еще раз возможность проследить то значение, какое старушка имела при дворе, ее силу, любовь и внимание к ней государя и государыни, позволяем себе сделать небольшое отступление.
Прасковья, как мы уже знаем, вела себя относительно Петра и всех придворных, по своему времени, с большим тактом и уменьем. Самые противоречащие друг другу поступки совершенно спокойно уживались в ее поведении. Женщина по-своему религиозная, преданная старинным обычаям и обрядности, она в то же время, по первому царскому зову, облекалась в шутовской костюм и выступала со своими фрейлинами «в смехотворной процессии свадьбы князь-папы». И нельзя сказать, чтоб это делала она из страха, по принуждению; нет! По крайней мере, этого не видно ни в ее «шутливом обхождении» с Петром, ни в ее обращении с толпой его денщиков и прочих приближенных, за которыми она ухаживала, зная их силу и влияние на дела… Составилась ли какая-нибудь ассамблея, пир на чистом воздухе в летнем саду, попойка ради какого-нибудь торжества в Правительствующем Сенате, публичный маскарад, свадьба, именины ли чьи праздновались двором — в кругу гостей неотменно присутствовала старушка Прасковья. Зная, что присутствие ее будет приятно Петру, она не обращала внимания на недуги, плелась в своей колымаге на пирушку и здесь с участием следила за прыганьем молодежи и с большим усердием осушала бокалы. В черном платье, в шапке старинного русского покроя, она резко выделялась в облаках табачного дыма, среди пудренной и расфранченной на немецко-голландский манер толпы придворных. Ее родная сестра Настасья, княгиня-кесарша Ромодановская, одарена была не меньшею угодливостью: по желанию царскому она постоянно разыгрывала роль древней русской царицы, облекалась в костюм старинного русского покроя, принимала с достодолжною важностью все смешные почести, ей воздаваемые, и проч. Одним словом, в ней олицетворялась довольно злая пародия императора Петра над стариною.