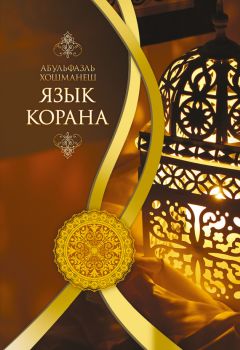Борис Кагарлицкий - От империй — к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации
Исследования Эдуарда Перруа в значительной мере поколебали подобное представление о Столетней войне. Однако поздняя советская и российская историография оказывается последним бастионом старой французской школы, описывающей конфликт пятисотлетней давности с позиций национального противостояния[152]. Если новообращенные варвары склонны быть большими католиками, чем сам Папа, то российские историки в повторении мифов французского патриотизма порой умудряются перещеголять самих французов.
Подобный взгляд на историю принципиально исключает анализ, и в особенности анализ классовый. Националистическая мифология апеллирует к эмоциям. Она выискивает в средневековых источниках малейшие проявления патриотических чувств либо то, что может быть истолковано как проявление таковых (например, победные кличи армий и возгласы толп), игнорируя огромный массив свидетельств, убедительно говорящих об обратном. А понятие «своих» и «чужих» задним числом интерпретируется в духе государственного патриотизма.
Разумеется, Столетняя война имела прямое отношение к возникновению современных наций, поскольку была связана с формированием национальных государств. Однако в Англии новое государство, начавшее формироваться еще до войны, к ее исходу переживало кризис, завершившийся обрушением всего политического здания. И наоборот, во Франции новый государственный порядок стал складываться только к концу противостояния, а завершилось его становление значительно позже. Реальная история Столетней войны — это не только и не столько история борьбы англичан и французов, сколько история серии гражданских войн в самой Франции, сопровождавшихся чередой английских интервенций. Завершение французской гражданской войны и консолидация нового государства, в свою очередь, обернулось крахом политической системы и вспышкой гражданской войны в Англии.
Война началась в результате обострения сразу двух тлеющих конфликтов, которые возникли значительно раньше. С одной стороны, принадлежавшая английскому королю Гасконь (то, что осталось от домена Плантагенетов во Франции) была постоянным яблоком раздора между Парижем и Лондоном. С другой стороны, фламандские города, отстаивавшие свою самостоятельность по отношению как к местным сеньорам, так и к французскому королю, стремились получить поддержку Англии. Поставки шерсти во Фландрию были важнейшим фактором английской экономики — от них в большой степени зависели и королевский бюджет, и доходы купцов, и поступление денег в сельское хозяйство. В свою очередь, перманентный финансовый кризис, переживаемый королевским правительством Франции, толкнул его на действия, обострившие обе проблемы разом. С одной стороны, усиливалось французское давление на богатую Фландрию, с другой — в Париже в очередной раз решили конфисковать домен Плантагенетов в Гаскони (Гиень). Такие попытки предпринимались уже несколько раз и регулярно заканчивались соглашениями. Однако на сей раз терпение лондонского двора лопнуло. Дело усугублялось тем, что правивший в Англии Эдуард III имел на французский трон не меньшие, а может быть и большие права, чем новая династия Валуа, совсем недавно воцарившаяся в Париже. Правда, пока Гасконь никто не трогал, Эдуард тоже своих прав не предъявлял, даже принес омаж французскому королю за эту территорию. Но после того как Париж объявил о конфискации, в Лондоне вспомнили про наследственные права.
Как отмечает французский историк Эдуард Перруа, начавшаяся война была «по происхождению феодальным конфликтом», и она оставалась таковым «почти до конца XIV в., то есть до восхождения Ланкастеров на английский трон»[153]. Плантагенеты всегда готовы были отказаться от своих прав, гарантируя мир в обмен на территории. Описывая политику Эдуарда III накануне мира в Бретиньи (Brétigny), Перруа заключает: «Династические притязания для него — лишь разменная монета. И тут же выяснилось, чего он действительно хотел: возвращения Гиени в пределах, как можно более широких, — пока речь шла о границах герцогства времен доброго короля Людовика Святого, но от успехов английского оружия аппетиты будут возрастать. Более того, для этой увеличенной Гиени он был намерен требовать полного суверенитета: больше никаких вассальных связей, никакого вмешательства французских чиновников в ее дела, никаких апелляций в Парижский парламент, никаких угроз конфискации. Если бы Гиень перестала быть частью Французского королевства, Плантагенеты наконец стали бы в ней хозяевами, а сам повод к войне исчез»[154]. Показательно, что новое суверенное княжество Аквитания, созданное на основе старой Гиени, оказывалось бы неподконтрольно и лондонскому парламенту, превращаясь в личную собственность династии.
Однако если Плантагенеты отстаивали свои династические права, то у торговцев и ремесленников Фландрии, подталкивавших Эдуарда III к войне с Францией, был собственный интерес. В 1339 году Фландрия и Брабант заключили антифранцузский договор, мотивируя совместные действия тем, что «эти две страны полны людей, которые не могут существовать без торговли»[155]. Еще до того, как союз с Англией был оформлен открыто, к этому договору примкнула Голландия. А в 1340 году Эдуард III, побуждаемый фламандскими лидерами, принес на Пятницком рынке в Генте присягу в качестве нового короля Франции, обещая соблюдать права и независимость городов Фландрии. Легко заметить, от кого исходила инициатива. Английский король колебался, но фламандцы толкали его на необратимые шаги, видя в борьбе двух королевств единственную защиту от французского феодального рэкета.
На первых порах, похоже, не только в Париже, но и в самом Лондоне не понимали, что бросив вызов Плантагенетам, французские короли ввязались в конфликт с государством, которое за полтора столетия, прошедших со времени Великой хартии вольностей и реформ Симона де Монфора, радикально модернизировалось и теперь существенно отличалось от государств континента. Очень скоро эта разница обнаружилась. И не только на полях сражений.
Еще до того, как первые английские солдаты высадились на континенте, в Лондоне продемонстрировали, что эта война будет совершенно непохожа на все предыдущие. Она заложила основу важнейшего института, без которого трудно представить себе более позднее государство: массовой пропаганде.
Разумеется, определенная система идеологического господства характерна для любого классового общества, но прежде ведущую идеологическую роль играла Церковь. Больше того, короли и князья мало задумывались о том, как обеспечить информирование и поддержку своих подданных по вопросам текущей политики, не говоря уже о международном общественном мнении. Теперь все было иначе. «Помимо официальных писем к папе, кардиналам и светским правителям, король Эдуард предпринял целую серию обращений к своим подданным, подданным французской короны и других государств. Эти обращения и прокламации расклеивались на дверях храмов во всех крупных городах, а также зачитывались вслух королевскими чиновниками и клириками в местах скопления народа, информируя людей о различных важнейших событиях: о причинах войны, о нападениях врага, победах, перемириях и т. д.»[156]. Значительное место в этих прокламациях уделялось нападениям французских пиратов на английских купцов и торговые города. А некоторые аргументы могут вызвать изумление тем, насколько они напоминают политическую пропаганду конца XX века. Так, доказывая свое право унаследовать французскую корону по женской линии (в связи с отсутствием прямого потомства по мужской), Эдуард, вполне в духе современного феминизма, обвиняет своего французского соперника в том, что тот сеет ненависть «человека к человеку» и «пола к полу», что Филипп Валуа «попирает права женщин, что является нарушением закона природы» (jus naturae)[157].
Прибегли в Лондоне не только к методам психологической войны, но и к войне экономической. Впервые в качестве средства борьбы между государствами использовалась торговая блокада. Стремясь дестабилизировать положение во Фландрии, Эдуард III запретил экспорт шерсти, на которой держалось фламандское ткачество. Побочным эффектом этой меры было развитие собственного английского производства (тем более, что многие фламандские ткачи перебрались на остров)[158]. Однако главная цель блокады состояла в том, чтобы усугубить прекрасно осознаваемый в Лондоне классовый конфликт между буржуазией и феодальной элитой во Фландрии. Причем попытку удачную. Эмбарго, наложенное Эдуардом III на поставку шерсти во Фландрию, нанесло удар по суконной промышленности этого края и способствовало развитию данной отрасли в самой Англии. Но важнейшим последствием этого решения стало то, что снова пришел в действие механизм социального конфликта, который был блокирован на протяжении нескольких десятилетий победой французов при Касселе в 1328 году.