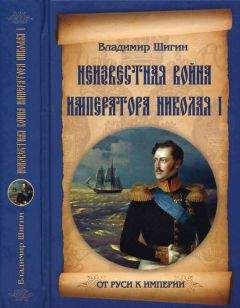Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения
Увольнение Коцебу несколько приоткрывает закулисную сторону. По словам Кобылинского, через лакеев солдаты узнали, что Коцебу подолгу засиживается у Вырубовой, жившей во дворце, разговаривая с ней по-английски. Замечено было, что Коцебу передает письма нераспечатанными, вопреки инструкции. «Боясь эксцессов со стороны солдат, – доказывал Кобылинский, – я доложил об этом Корнилову», который отстранил коменданта, возложив эту обязанность временно на Кобылинского. Причина отставки, очевидно, была сложнее. Возьмем несколько выписок из дневника Нарышкиной, находившейся тоже во дворце, 18 го: «Начался процесс Сухомлинова, боюсь, что он вызовет тяжелые обвинения против них, так как они его защищали, насколько могли. Императрица дала неосторожно знать Нине Воейковой, что в чем бы ее мужа ни обвиняли, она ни слова не поверит…» «Аня Вырубова привлекает к себе Коцебу и хочет склонить его к своим интересам, но я думаю, что он не будет введен в обман и извлечет пользу из ее рассказов, потому что он умен и тонок», 19 го… «Опубликованы последние телеграммы Императрицы Государю. Императрица возмущена и, кажется, искренне». 20 го, повторяя, что Вырубова старалась «овладеть Коцебу», Нарышкина добавляет: «Императрица тоже по ее совету». Вероятно, Коцебу попустительствовал тому, что Царица, при содействии Вырубовой, сожгла некоторые бумаги. Сжег бумаги и письма и Царь, как он сам отмечает в дневнике 10 и 11 марта. Слухи эти вышли за пределы дворца, как подтверждает Керенский. Говорили, что во дворце уничтожена масса документов, свидетельствовавших об «измене и сношениях с неприятелем». Когда Керенский посетил дворец 21 го, ему было доложено, по его словам, одним из служащих о сжигании бумаг, что показалось подозрительным. Совершенно ясно, что Керенский до приезда был осведомлен об этих слухах, и по его приказу был произведен тщательный обыск в печах и обнаружено большое количество золы. Подверглись допросу служители. По дневнику Бенкендорфа визит Керенского носил еще более демонстративный характер. Керенский был нарочито небрежно одет – имел по внешности вид рабочего[81]. Особенно шокировало царедворцев, что министр революционного правительства прибыл в автомобиле, принадлежавшем лично Императору, и с шофером из прежнего императорского гаража (Жильяр). Он прибыл в сопровождении 15 человек. Начал обход дворца с кухни, где сказал, что на обязанности слуг следить за тем, что происходит во дворце. Сопровождавшие Керенского осмотрели подвал, открывали все шкапы… В показании Соколову Керенский, не упомянув об обысках, говорил: «Я осмотрел помещение дворца, проверил караул, дал некоторые указания руководящего характера».
В этот же приезд Керенского была арестована и полубольная Вырубова. Арест ее нельзя не сопоставить с бывшим перед тем обыском у Бадмаева, совпавшим с интервью Юсупова о том, как Царя опаивали распутинцы настойкой из тибетских трав. Настроение против Вырубовой было довольно напряженное: Нарышкина отметила, что после эскапады Мстиславского некоторые придворные настаивали на удалении Вырубовой из дворца. Но все-таки нельзя присоединиться к мнению современника, что Керенский ездил в Царское арестовывать Вырубову и «спасать ее от самосуда» (Гиппиус). Недаром на другой день после посещения Керенским дворца в газетах появилось сообщение, в котором было сказано, что министру юстиции в качестве генерал-прокурора поручено Чрез. Сл. Ком. обратить «особое внимание на дело Царя».
Не имеем ли мы права на основании изложенного определенно заключить, что изъятие охраны царской семьи из военного ведомства и передача ее заботам министра юстиции было не только вызвано политическими мотивами, но что в это время уже намечалось «дело Царя»? Одна хронологическая поправка, которую необходимо внести в воспоминания Керенского, и показания, данные им Соколову, сразу вносят ясность в этот вопрос. Во время расследования деятельности окружения Царицы («Вырубовой, Распутина, Воейкова и др.»), в силу доклада председателя Следственной Комиссии о возможном допросе императорской четы, министр юстиции по «собственной инициативе» в целях беспристрастности расследования решил разделить мужа и жену и изолировать их друг от друга: он вынужден был прибегнуть к такой мере для того, чтобы не дать возможности им договориться или скрыть что-либо, вернее в целях избегнуть влияния А. Ф. на мужа. В течение всего расследования они могли встречаться только в часы еды в столовой и в присутствии посторонних, т.е. в присутствии дежурного офицера. Надо прибавить, что разрешалось говорить за столом только по-русски и на общие темы (Жильяр). Распоряжение это, по словам Керенского, было сделано в начале июня и имело силу в течение месяца. За Керенским последовал и Соколов, не имевший в своем распоряжении достаточного материала. Между тем дневник Николая II устанавливает совсем иную дату – а именно 27 марта, т.е. во второй приезд Керенского. Запись гласит: «Начали говеть, но для начала не к радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть раздельно; будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый С.Р.С.Д. Пришлось подчиниться во избежание какого-нибудь насилия». Запись Царя подтверждает и запись гофмейстерины, которую Керенский предварительно вызвал к себе: «Он мне говорил, что нужно отделить Государя от Государыни. Хочет оставить детей Государю. Я сказала, что Императрице будет слишком тяжело, если ее разлучат с детьми. Это безусловно необходимо ввиду найденных у Ани важных бумаг. Вероятно, под влиянием окружающих ее негодяев глупенькая сделала какую-нибудь неосторожность». Очевидно, под влиянием Нарышкиной министр юстиции несколько изменил свое первоначальное решение. Небезынтересно сопоставить с последними словами, имеющимися в записи Царя по поводу свидания с Керенским, мемуарное заключение самого Керенского. Он говорит, что объяснил Царю мотивы этой «жестокости» («duretй» – кавычки мемуариста) и просил Царя с своей стороны, сделать так, чтобы эта мера была осуществлена с минимумом неприятности и постороннего вмешательства… В одной из своих книг («Rйvolution») Керенский говорит, что разделение мужа с женой произошло на случай, если им придется быть свидетелями. «Все прошло спокойно» и «все, с кем я разговаривал», отмечали благоприятное влияние, которое оказало это разделение на Царя[82]. «Он стал более оживленным, более счастливым (!) и более доверчивым». Узнав от ген.-прокурора, что будет расследование и может быть процесс против Императрицы, Царь принял это известие совершенно спокойно и сказал: «Я не думаю, что Аликс может быть в чем-нибудь замешана… Имеете ли вы какие-либо доказательства»? «Я не знаю, – ответил Керенский, – пока еще нет».
Память Керенского не удержала даты 27 марта, но зафиксировала «начало июня» для времени, когда Императрица подвергалась изоляции. Эта дата отпечатлелась потому, что в это время у Царя вновь, согласно докладу председателя След. Комиссии, происходила выемка бумаг. 3 июня Ник. Ал. записал: «После утреннего чая неожиданно приехал Керенский. Остался у меня недолго: попросил послать Следственной Комиссии какие-то бумаги, имеющие отношение до внутренней политики. После прогулки до завтрака помогал Коровиченко (новый дворцовый комендант) в разборе этих бумаг. Днем он продолжал это вместе с Кобылинским». К лаконической записи дневника Кобылинский сделал такое добавление: «Бумаг было очень много; все они были разложены по отдельным группам в порядке. Указывая на бумаги и на группы, по которым они были там уложены, Государь взял одно письмо, лежавшее в ящике, со словами: “Это письмо частного характера”. Он вовсе не хотел взять это письмо от выемки, а просто взял его, как отдельно лежащее, и хотел его бросить в ящик. Но Коровиченко порывисто ухватился за письмо, и получилась такая вещь: Государь тянет письмо к себе, Коровиченко – к себе. Тогда Государь, как это заметно было, рассердился, махнул рукой со словами: “Ну, в таком случае я не нужен. Я иду гулять”. Он ушел. Коровиченко отобрал бумаги, какие счел нужным отобрать, и доставил их Керенскому».
Приведенные факты показывают, что «лишенные свободы» представители старой династии должны рассматриваться, как политические заключенные, как подследственные, которым еще не предъявлено обвинение. При таком положении условия их заключения, весьма возможно, должны быть признаны неизбежными и, быть может, целесообразными. Они не могут быть признаны логическими и вытекающими из сущности дела, если на «лишение свободы» представителей династии смотреть с точки зрения гуманной, охраны их интересов и их безопасности, так как ссылки на народную стихию явно преувеличены и в силу этого не убедительны. Керенский сам себе противоречит, когда рассказывает о демонстрации, которая была устроена в Страстную пятницу в Царском Селе в день похорон жертв революции. Церемония должна была происходить в одной из больших аллей царскосельского парка, недалеко от дворца, как раз против апартаментов, занятых царской семьей, так что Царь из окон своей «позолоченной тюрьмы» не мог не увидать, как его охрана с красным знаменем отдает последний долг павшим в борьбе за свободу. Это должно было явить собой манифестацию, исключительную по силе драматизма (poignante et dramatigue). В это время гарнизон был еще хорошо дисциплинирован, и бояться каких-нибудь беспорядков не приходилось. Керенский ссылается на постановление царскосельского совета об организации, по примеру Петербурга, официального торжества похорон жертв революции, но повсюду говорит «мы», из чего приходится предполагать, что показательная демонстрация произошла если не по инициативе, то при ближайшем участии членов правительства. Царь был взволнован, рассказывает министр, на которого была возложена забота о заключенных, и просил устроить похороны вне дворцовой территории или, по крайней мере, не в день Великой пятницы («La Rúvolution»).