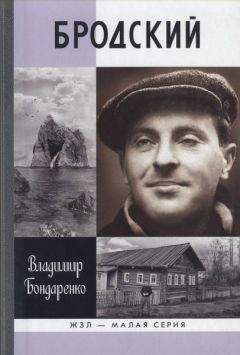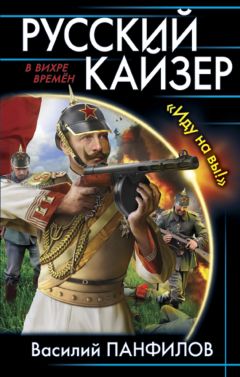Николай Бондаренко - Консервативный вызов русской культуры - Русский лик
В. Б. Демократы любят говорить о чистом искусстве. Но что может быть чище прозы Владимира Личутина? Даже в сюжет можно не вникать, а перед сном почитать для наслаждения несколько страничек Личутина - красоте слова поразиться.
В. Р. Личутину повезло с местом рождения. Потом было у кого и поучиться на русском Севере. В северной сторонушке всегда хватало таких словесных кудесников, тот же Шергин... Дай Бог ему сегодня сил побольше... Конечно, Леонид Бородин интересен сегодня многим...
В. Б. Что ты думаешь о месте Александра Солженицына? Он сегодня тебе интересен?
В. Р. Всякая большая величина, она вызывает сложное к себе отношение. А Солженицын - величина очень большая. Тут для меня никогда никаких сомнений не было. С момента "Одного дня Ивана Денисовича" и до самого последнего времени... Очень хорошо, что Александр Солженицын вернулся.
Был бы он в стороне, ему бы не понять, что у нас происходит. А последняя его статья, перепечатанная вашей газетой, подтверждает - это нельзя было углядеть нигде, только самому прочувствовать изнутри. Это можно было понять, только дыша этим русским воздухом и видя, что происходит. Солженицын в ней уже совсем другой. Ты сам в своем предисловии к его статье и говоришь об этом, хотя он не признал еще своей ошибки с октябрем 1993 года, но, я думаю, втайне он уже чувствует, что ошибся. Мне кажется, он уже понимает, что его резко непримиримая борьба с коммунизмом, когда он призывал весь мир к такой же непримиримой борьбе,- приводила к поддержке борьбы с самой Россией.
В. Б. Владимир Максимов первым осознал, что не с коммунизмом западный мир боролся, а с Россией как могучим государством. Мне кажется, что сейчас уже на пути к такому же признанию и Александр Солженицын. К федерации России с Белоруссией, Украиной и Северным Казахстаном. Мы только можем мечтать сегодня об этом. Он оказался прав в своих прогнозах.
В. Р. Полностью согласиться с Солженицыным я и сейчас не могу. Скажем, согласиться с тем, что он против Шолохова писал. Это у него что-то личностное, ревнивое, завистливое. Жаль. И второе - это то, что он поддерживает отход от нас Чечни. Может, с этим придется и смириться, но именно смириться, а не поддерживать. Если Чечня отпадет, то и благодаря его поддержке. Не надо об этом забывать. Его слово имеет вес. К нему прислушиваются в мире. С таким позором отдавать Чечню - это соглашаться с Лебедем, соглашаться с Березовским. Вопреки, может быть, здравому смыслу. Ведь весь Кавказ отпадет... Евгения Носова еще хотел бы отметить. Он печатается в журнале "Москва". Его рассказы говорят, что он в хорошей форме. Еще и в прежние, благополучные времена он чувствовал себя больным человеком. В этом возрасте любая болезнь просто переходит в другую болезнь. Нам кажется, что мы излечиваемся, а получаем иную болячку. Он чувствует себя не очень хорошо, но по-прежнему пишет, и хорошо пишет, и дай Бог ему писать дальше.
В. Б. Дай Бог каждому писателю быть в творческой форме. Я рад, что ты сегодня вновь печатаешь такие сильные рассказы, как "В ту же землю". Хочу спросить тебя, ведь даже самый талантливый критик не может адекватно проникнуть в замысел писателя. Критик может дать интересную интерпретацию того же "Прощания с Матерой", того же "Живи и помни", но как узнать, что думал сам автор, что замысливал? Что двигало тобой, когда ты писал "Живи и помни" и "Прощание с Матерой"? Получилось ли то, что задумывалось?
В. Р. У меня все мои замыслы по-своему складываются, может быть, не так как у многих. Я когда начинаю что-то, не знаю, как буду заканчивать. Даже не знаю, кто у меня будет там действовать. Появляется главный человек, вокруг которого организовывается действие. Появляется круг людей вокруг него. И потом я думаю, как привести к логичному финалу. Ни одной вещи я не знал, чем она у меня закончится. Что-то стучится в тебе, и так до тех пор, пока не обдумаешь и не напишешь. Так у меня было с Настеной. Для меня с самого начала не был важен этот дезертир Андрей. Я не собирался ни оправдывать его, ни наказывать. Это был тот повод, который лучше всего мог бы раскрыть характер Настены. В "Матере..." центром стало событие. Не столько старуха Дарья - главное действующее лицо, сколько само событие. Крушение старой деревни. Чем кончилось для всей страны это крушение, сейчас особенно видно. Почему мы еще столь быстро потерпели поражение в стране? Мы разрушили старую деревню, которая держалась на нравственных устоях. В новой деревне нет уже тех старых нравственных ценностей, нет опоры, нет крепости духа. Скарб, может быть, и вывезли, а духовные ценности потопили. Это и был исход из той подземной, подлинной Руси.
В. Б. Мне кажется, это и есть твоя главная тема. Ты слышишь голоса подземной подлинной Руси и доносишь их читателю. Как ты думаешь, сегодня удается тебе слышать голоса подземной Руси? Или они уже почти исчезли?
В. Р. Думаю, что удается. Думаю, что я и сейчас слышу голос подземной Руси. В моем нынешнем шестидесятилетнем возрасте они даже лучше слышатся. Я думаю, что каждый настоящий русский писатель слышит эти голоса. Если даже и не слышит, писатель сам начинает их выкликать, вызывать. Вызывает, вызывает - и приходит к нему это знание, этот гул подземной Руси. Скажем, в последнем рассказе "В ту же землю" само событие - как бы из лежащих на поверхности. Сейчас в каждом городе такие кладбищенские нахаловки. Тут важно было найти тональность. Ту тональность, которая бы и не пережала... Я сейчас чувствую, что возникает необходимость в каком-то светлом-светлом произведении. Может быть, грустном, но все-таки светлом. Нужен тот подземный голос, о котором мы уже говорили. Мы все-таки сейчас слышим в основном трагические голоса. А услышать бы тот вдохновляющий светлый голос. Это сейчас очень важно.
В. Б. Когда-то мы все - и левые, и правые - жаловались на засилье цензуры. Не будем ее реабилитировать. На самом деле все эти цензоры немало пакостей понаделали, а сейчас верно служат цензорами у Ельцина. Один палач русской литературы Солодин чего стоит... Но все-таки, здорово ли тебе мешала цензура как художнику? Дала ли тебе нынешняя бесцензурная свобода что-то существенное? Многое ли ты недосказал из-за цензуры в своей прозе? Не дисциплинировала ли цензура художника, заставляя образно выразить все, что никакой цензуре неподвластно? Удавалось ли сказать все сокровенное? Может ли талантливый художник обойти цензуру?
В. Р. Конечно, может. Не проходили лишь откровенно режимоборческие вещи, а их в нашей литературе не так много. У меня нет ощущения, что я чего-то недосказал. Даже в "Живи и помни", где речь идет о дезертире, нет у меня недосказанности. Были какие-то небольшие потери, так я их восстанавливал от книги к книге. В одном издании что-то добавлю, в другом и так до полного текста. Кто же будет следить за всеми поправками? Раньше ведь какое было ощущение? Ты пишешь и знаешь, что читатели ждут. А читатели найдут и первый, и второй, и третий, и пятый слой смысла. Ты даже и сам не подозреваешь, что найдет у тебя читатель. Когда о чем-то говоришь, не обязательно договаривать до конца. Читатель был очень чуток к этому. Ему даже нравилось самому договаривать что-то до конца. Читатель знал, что цензура существует, что она может что-то испортить, и сам искал все слои произведения. Это и было сотворчество - благодаря цензуре. Читатель находил у тебя многослойность даже там, где ее и не было. Мне приходила масса писем, где меня поздравляли с тем-то и тем-то иносказанием, о чем я даже и не думал. Не только писателя цензура заставляла быть богаче оттенками, но и читателя цензура заставляла творчески мыслить. Сложнее и многограннее прописывать и прочитывать. Это не гимн цензуре. Я, как и ты, ее недолюбливал, но это гимн возможностям художника и творца. Настоящему художнику цензура не так уж и мешала.
В. Б. А были ли такие сюжеты, замыслы, которые в силу цензурных или политических ограничений так и не удалось осуществить?
В. Р. Не знаю. К примеру, по молодости я собирался написать повесть о нашей одной инициативе. Я тогда молодой журналист был, и мы решили создать колхоз из добрых людей. Это такое романтическое, даже утопическое начинание было. Мы не понимали, что не нужны никакому колхозу двадцать журналистов, что ему нужны прежде всего рабочие руки. Мы стали списываться со всеми хорошими людьми, которых мы знали. Стали искать место приложения своих сил. Из этого ничего путного не вышло. И не могло выйти. Но я все-таки хотел написать об этом колхозе повесть. Мне казалось, что мешают цензурные ограничения. Я даже ее начал писать (в "Смене" Саша Морковкин отрывок печатал), но так и не дописал. Я сейчас понимаю, что мне, в сущности, нечего было сказать. А тогда думал, что мешают цензурные помехи.
В. Б. Когда ты ощутил себя писателем? Когда решил пойти в литературу?
В. Р. Откуда пошли мои книги? Писательскую чувствительную душу, конечно, творит детство. А у меня детство происходило у Ангары, среди тайги. Среди добрых людей. И, действительно, кругом было много добрых людей. Я жил в колхозе. Этот колхоз в принципе можно было весь пересажать по тем законам. Наверное, не только наш колхоз. Все жили, помогая друг другу выжить. Что полагалось отдавать государству - отдавали. А остальное скрывали. Это была политика деревенского самовыживания. Совершенно скрытая и массовая политика самосохранения народа. Самовыживаания той подземной Руси. Могли приезжать сколько угодно комиссий. Режим мог сколько угодно давить, но колхоз знал, как выжить. Это уже был не просто коллектив, а крестьянский мир. Одна семья была. Так происходило повсеместно по Руси. И я не собирался никаким становиться писателем, заканчивал университет в Иркутске, готовился работать учителем. Тогда учитель был в деревне самым уважаемым человеком. И я хотел быть учителем. Как-то так получилось, что я стал подрабатывать в журналистике, а потом это увлекает. Так и пришел в литературу.