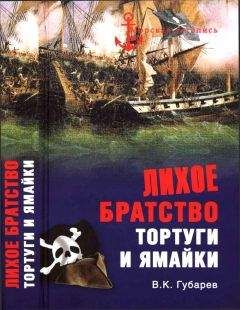Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры
Через год слова Самарина одобрительно процитирует А. Лозанова в статье в «Литературной учебе»[391]. 7 мая того же 1936 года в газете «Правда» появляется публикация песни казахского акына Джамбула «Моя родина» в переводе П. Н. Кузнецова, за которой последовали многочисленные публикации произведений новонайденного старца: Джамбул не хуже, чем Стальский, воплощал в себе образ «неграмотного, но мудрого» народного певца. Поиск представителей народной восточной поэзии к этому времени ведется все шире. Коллега Кузнецова по переводам казахской поэзии Константин Алтайский в том же году заверял читателей «Литературного критика» в том, что
в настоящее время в Казахстане выявлено более 100 талантливых акынов. Общее число их, конечно, превышает эту цифру[392].
В 1937 году вниманию к казахским акынам и особенно к Джамбулу способствует трагическое событие — смерть Стальского, умершего за несколько дней до того, «когда, облеченный доверием народа <…> „Гомер XX века“ должен был стать депутатом Совета Союза»[393]. Восточные и, в частности, среднеазиатские окраины Советского Союза обнаруживали поэтические таланты и помимо Джамбула: таковы, например, опубликованные в том же 1937 году в «Новом мире» поэтическое «обращение Курманалиева Юсупа из Нарына к декханам, охотникам и скотоводам», «размышления колхозника Байсалбаева Абды из Кара-Джона», «песня эрчи Джумалиева Сурамтая из Уч-Терека», предсказуемо варьирующие «гомеровские» мотивы Стальского:
А ты, один, любимый Сталин,
Своей любовью и работой
Склоняешься везде над нами
Как над степями небосклон…
Я вижу Сталина везде <…>
Я вижу Сталина во всем <…>
Чудесен Сталин — счастье в нем,
Он на земле всего чудесней!
и т. д.[394]
На фоне многочисленных народных певцов и сказителей, публиковавшихся во второй половине 1930-х годов в центральной и областной печати, выбор, павший на Джамбула, представляется в общем достаточно случайным. «Открытие» творчества казахского акына для советского читателя связывается с именем Павла Кузнецова, опубликовавшего в 1936 году первые переводы песен Джамбула. Но Джамбул не был единственным открытием Кузнецова. За два года до появления в газете «Правда» публикации песни Джамбула «Моя родина» в Алма-Ате в переводе Кузнецова был издан сборник произведений еще одного казахского аэда, по имени Маимбет. Тематически и стилистически песни Маимбета, славившего Сталина и клявшего «врагов народа», вполне схожи с песнями Джамбула в последующих переводах того же Кузнецова или Алтайского[395]. Однако в 1938 году цитаты из произведений Маимбета, как и упоминания его имени, из печати исчезают и больше нигде — ни в историко-научных трудах, ни в сборниках казахского фольклора и литературы — не фигурируют. Объяснение этому исчезновению дал литературовед и переводчик А. Л. Жовтис, долгие годы работавший в вузах Алма-Аты и хорошо знавший литературное окружение Кузнецова и Алтайского. По утверждению Жовтиса, от имени Маимбета писал не кто иной, как сам Кузнецов, самого же акына с таким именем никогда не существовало. Мистификация стала рискованной, когда Маимбет удостоился заочного внимания властей, после чего искомый акын нежданно-негаданно исчез, «откочевав», по покаянному объяснению Кузнецова, с родственниками в Китай[396]. Последним упоминанием о Маимбете стала юбилейная статья А. Владина «Джамбул и его поэзия (к 75-летию творческой деятельности)», напечатанная в майском номере «Нового мира» за 1938 год[397].
В отличие от Маимбета, Джамбула придумывать было не нужно. Славившийся как певец-импровизатор, побеждавший на поэтических соревнованиях (айтысах) Джамбул, певший по-казахски и едва понимавший по-русски, даже если бы хотел, едва ли мог бы оценить переводные тексты, которые публиковались под его именем[398]. К тому же, удостоившись на старости лет всесоюзных почестей и материального достатка[399], Джамбул имел все основания доверять переводческие проблемы своим литературным консультантам[400]. В 1938 году усердствующий в популяризации Джамбула Алтайский, корректируя свои прошлогодние подсчеты, писал о том, что «акыны исчисляются в Казахстане сотнями»[401]. О сотнях акынов писал в том же году А. Владин, детализуя статистику по территориально-производственному принципу: «Районные, областные и республиканские олимпиады народного творчества <…> доказали, что акынов и жирши имеют не только районы, но и отдельные колхозы, совхозы, предприятия»[402]. В контексте таких реляций роль Гомера XX века со смертью Стальского вменяется Джамбулу, удостаивающемуся особенного внимания в связи с официально объявленным в 1938 году «75-летним юбилеем» его творческой деятельности, а сам Казахстан рисуется своего рода фольклорной Меккой советского Востока или даже всего СССР[403].
Сравнения Джамбула с Гомером тиражируются в центральных и районных газетах:
В древней Греции из-за Гомера спорили семь городов. <…> Народы великого Советского Союза с большей страстью боролись бы из-за Джамбула, оспаривая свое преимущество перед другими, если бы не два обстоятельства: Джамбул принадлежит единому и могучему советскому народу[404].
Правление Союза советских писателей Армении, поздравляя Джамбула, газетно адресует «привет Гомеру сталинской эпохи»[405]. А Корнелий Зелинский доходчиво объясняет источники гомеровской мудрости (равной политической грамотности) неграмотного, как и Стальский, Джамбула:
«Каким образом такой старый человек, не читающий газет, живущий вдалеке от центра политической жизни, каким образом он оказывается в курсе самых животрепещущих новостей и его отклик всегда направлен туда, куда целим мы все?» Вот в этом-то и выражается замечательный характер нашей жизни, что пульс ее бьется с равной силой и в сердце страны и на ее окраинах. Почему так поет Джамбул? Он слышит обо всем, о чем говорят в народе, он живет тем, чем живет народ. <…> Он слагает песни о борьбе с троцкистскими наймитами фашизма <…>, о колхозных победах, об Испании, о Пушкине, о дружбе народов, о смерти Орджоникидзе, о первом мае, о газете «Правда». <…> Таков Джамбул <…>. Его песни, он сам, вся его жизнь — это живой эпос наших дней, в котором, как в зеркале, отразились пути народные почти за столетие. Джамбул не только выдающийся поэтический талант, но и творенье народа в его борьбе за освобождение, за социализм[406].
«Народ», «живой эпос», «пульс нашей жизни», бьющееся «сердце страны» и другие понятия, которыми оперирует в своем «объяснении» Зелинский (умело перефразирующий здесь же и ленинскую метафору о «зеркале русской революции»), равно указывают на единство уже состоявшейся коммуникации, напоминающей, говоря языком Никласа Лумана, о своей исходной невероятности в категориях дейктического противопоставления всему тому, что ею, — то есть этой самой коммуникацией, — не является.
Обилие (квази)фольклорных текстов восточных авторов в публицистическом обиходе сталинской поры позволяет исследователям говорить о стилистической «ориентализации» советской культуры конца 1930-х годов, как бы расширяющей и трансформирующей свое виртуальное пространство равноправным соотнесением в нем близкого и далекого, центрального и периферийного[407]. Но расширение границ советской культуры реализуется не только в пространственно-географическом, но и ретроспективно-временном измерении. Предыстория советской культуры призвана объединить отныне историю культуры всех народов и народностей, потомкам которых суждено было стать советскими гражданами.
1937 и 1938 годы богаты юбилейными событиями, объединившими имена А. С. Пушкина (1937 год — столетие смерти поэта), Шота Руставели (1937), чествование которого приурочивается в одних случаях к 750-летию со дня его рождения, а в других — к 750-летию поэмы «Витязь в тигровой шкуре», и Джамбула (1938 — 75-летие творческой деятельности). Юбилей Шота Руставели в этом ряду был наиболее спорным. В научных статьях, посвященных ему, отмечалось, что биографических сведений о Руставели практически не сохранилось: все, что известно об авторе «Витязя в тигровой шкуре», сводится к предисловию к самой поэме, элегии поэта Чахрухадзе, называющего себя братом Шота, народным преданиям о поэте и обнаруженному в 1755 году рисунку на стене одного из монастырей Иерусалима — изображению человека в одежде монаха с надписью «Шота». В целом эти сведения суммируются противоречивым образом: Шота Руставели жил в конце XII — начале XIII века, была деятелем эпохи царицы Тамары — то ли должностным лицом при ее дворе, то ли ее секретарем. Поэма написана по поручению Тамары. Последние годы жизни Шота провел на Востоке — и то ли погиб по пути из Ирана на родину (если верить Чахрухадзе), то ли скончался в монастыре[408]. Точные даты жизни поэта, как и точные даты написания поэмы, неизвестны: цифра в 750 лет был в данном случае совершенно условной. В статьях о Руставели, заполнивших собою газетные страницы 1937–1938 годов, юбилей связывается и с днем рождения поэта, и с годовщиной его поэмы[409].