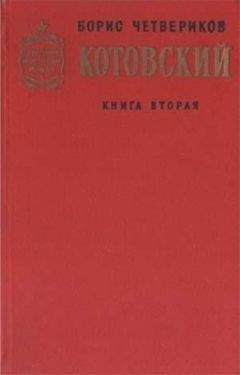Борис Четвериков - Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)
4
Вскоре Маркову представилось немало удобных случаев, чтобы недоумевать, восклицать, изумляться. Например, как это могло случиться, что сейчас, в 1923 году, когда Коммунистическая партия отмечает свое двадцатилетие, когда отгремели бои под Вознесенском, очищена Одесса, стерты с лица земли и Врангель, и Колчак, - вот, полюбуйтесь: на Невском, дом 60, находится "Ложа Вольных Каменщиков" и там недавно состоялся диспут по докладу некоего Миклашевского "Гипертрофия искусства"!
- Какие каменщики? Какая гипертрофия? - спрашивал всех Марков, но вразумительного ответа не получал.
Ходили вчетвером - супруги Крутояровы, Марков и Оксана - на выставку в Академию художеств. Оксана, которая не так часто выбиралась из дому, была потрясена не только картинами, но и видом на Неву, на гавань, и сфинксами перед зданием академии, и университетом, мимо которого проезжали.
- Ой, матенько! - поминутно восклицала она, и черные ее брови поднимались все выше и выше.
В выставочных залах к ним присоединился Евгений Стрижов. Он был как дома.
- Дальше, дальше идемте, - тащил он всех. - Тут чего смотреть: цветы.
- Нет, погодите, - остановил Крутояров. - Взгляните на эту сирень.
- Понюхать хочется! - восхищенно вглядывался Марков.
- Художник не просто так вот решил - дай-ка нарисую сирень. Обратите внимание, какие сильные, сочные гроздья, как много веток сирени, они даже не вмещаются в вазу. Обилие, цветение, торжество жизни! А скатерть на столе какова? Видать, в доме живет рукодельница, видать, в доме совет да любовь, а то и не до цветов бы было!..
- Это вы все выдумываете, потому что писатель, - возразил Стрижов. А для обыкновенного взгляда - сирень как сирень.
- Вы - поэт, и еще молодой поэт, как же это может вас не трогать? Нельзя мимо красоты проходить, надо вглядываться, вопрошать, впитывать!
- Впитывать! И без того нас за красоту поедом едят! Читали Силлова?
- Какого еще Силлова?
- Он из стихов Герасимова надергал цитат: заводские трубы погребальные свечи, город - гроб, синяя блуза - саван, и делает вывод: ага, церковные атрибуты, мистика!
- Гроб - церковный атрибут? - расхохотался Крутояров. - А в чем же самого этого Силлова в землю закопают? Но у нас речь о сирени. Значит, Силлов нас ни в чем не упрекнет.
- Упрекнет! У Герасимова: "Угля каменные горны цветком кровавым расцвели"...
- Ну и что же? Расцвели.
- У Крайского: "Как крылья разноцветные, знамена батраков", у Кириллова: "Звучат, как крепнущий прибой, тяжелые рабочие шаги"...
- Что же ваш Силлов нашел тут запретного?
- Цветок?! Мотыльки?! Прибой?! Значит, у пролетарских поэтов влечение к деревенской мужицкой Расеюшке, значит, ориентация на эсеров!
- Неужели так и написано: Цветы - эсеровщина? Прибой - деревенский образ?
- Я вам и журнал принесу, если хотите. Особенно Крайскому попало: "Родину мою, как Прометея, враги и хищники на части злобно рвут"... Силлов говорит: Прометей - мифологическое сравнение, значит, пролетарская литература - вовсе не пролетарская.
- М-да! - вздохнул Крутояров. - Тут ничего не скажешь... Но мы загораживаем дорогу посетителям выставки и не к месту занялись дискуссией. О вашем Силлове одно можно сказать: дурак и молчит некстати и говорит невпопад.
Этот неожиданный разговор чуть не испортил всем настроение. Крутояров хмурился и как-то странно мотал головой, будто ему что-то мешало. Оксана испуганно смотрела и не знала, как всех успокоить. Марков молчал, но злился. Одна Надежда Антоновна восприняла этот рассказ юмористически.
- А кто такой Силлов? Ноль! И кто станет читать его галиматью? Какие вы, товарищи, впечатлительные!
Вскоре все уже с увлечением разглядывали натюрморты Клевера-сына, воздушные полотна Бенуа.
Оксане понравились "Гуси-лебеди" Рылова.
- К нам летят! - прошептала она. - На родную сторонушку!
Дойдя до "музыкальных композиций" Кондратьева, Крутояров стал рассеяннее, а когда увидел "левое" искусство Пчелинцевой, снова стал чертыхаться, уже по поводу "заскоков" и "экивоков".
- Что это? - тыкал он в картину. - Пятна, волнистые линии... И хоть бы сама придумала, матушка, а то ведь все косится туда, на запад. Озорничать тоже надо умеючи. Иначе начнешь epater les bourgeois, а буржуа-то не ошеломятся!
Вскоре после выставки Марков и Стрижов побывали на устном альманахе рабфаковцев "Певучая банда". Голубоглазый, весь в веснушках, с задорным хохолком, Евгений Панфилов читал:
Пусть туман и пуля-лиходейка,
В сердце страх не выищет угла!
Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!
- Как бы Силлов не услышал, - шепнул Стрижов, делая страшные глаза. Опять церковный атрибут! Будет Панфилову на орехи!
Оба весело рассмеялись и стали дружно аплодировать.
После "Певучей банды" посетили литературный вечер "Серапионовых братьев". Хлопали Тихонову. Он читал "Брагу". Он сказал: "Меня сделала поэтом Октябрьская революция". Освистали докладчика Замятина. Замятин уверял: "Железный поток" сусален, Сергей Семенов пошл... Только сам себе Замятин нравился!
Посетили затем "Экспериментальный театр" в помещении Городской Думы... Потом слушали лекцию Луначарского...
А однажды Стрижов таинственно сообщил:
- Сегодня ты умрешь от восторга! Пошли!
- Куда?
- А вот увидишь. Пошли, говорю!
Петроградское объединение писателей "Содружество" устраивало по четвергам литературные чтения, они происходили на квартире одного из "содружников". Это тоже было своеобразием тех времен. Каждый четверг вечером в квартире на Спасской улице, дом 5, были гостеприимно открыты двери для всех желающих. Хозяин встречал каждого и провожал в ярко освещенную комнату, где было много стульев, в углу сверкал крышкой рояль, на столе для посетителей был налит чай, тут же предусмотрительно положена стопка чистой бумаги и с десяток остро отточенных карандашей - для заметок при чтении, если кто не запасся блокнотом.
Стрижов, оказывается, знал здесь всех наперечет. Он негромко называл Мише фамилии, а Миша ахал, удивлялся и смотрел во все глаза.
- Видишь, с такой буйной шевелюрой и глубокими пролысинами на лбу? Свентицкий, критик. Рядом с ним Лавренев, у которого кот на коленях. Читал "Сорок первый"?
- А эта, с челкой? Низенькая?
- Сейфуллина. Неужели не узнал? Ее портреты есть в журналах. А тот, у окна, худощавый, - это поэт Браун, он сегодня будет новые стихи читать. А с бородой, кряжистый - Шишков Вячеслав Яковлевич. Вот мастер свои произведения читать! Заслушаешься! А к нему подошел, разговаривает... видишь, с усиками? Это Михаил Козаков. Рассказы пишет. Рождественского чего-то нет сегодня. Хотя он всегда опаздывает.
- Удивительно все-таки, - вздохнул Марков, - вот состаримся мы и будем вспоминать: такого-то впервые я встретил, помнится, в таком-то году...
- Ну вот еще! - вдруг обиделся Стрижов. - Мы никогда не состаримся!
В этот вечер приятели очень поздно возвращались домой. Стрижов провожал Мишу до самых дверей парадного и непрерывно декламировал: он знал множество стихотворений, особенно современных поэтов.
Улицы были почти безлюдны в этот поздний час. Но завидев шумную ватагу молодежи, наполнившую визгом, гамом, пением всю улицу, Стрижов поспешил с пафосом провозгласить:
И в живом человечьем потоке
Человечье лицо разглядеть!
- Это я знаю, - обрадовался Марков, - это Садофьева!
- Угадал, его. Не все, братец ты мой, наши пролетарские поэты пишут в мировых масштабах, вон они о чем - вглядываются в лица! А это знаешь:
Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?
- Женька! А ведь здорово? Ты мне завтра напомни, я себе в тетрадь запишу. Чье это? Александровского? А он где? В Москве? Знаешь, мне ужасно понравилось на "четверге"! Вот уж никак не думал, что Сейфуллина здесь живет!
- На улице Халтурина. Лавренев - на набережной Рошаля.
- А Крайский?
- У Крайского я сколько раз бывал. Он на проспекте Маклина. Он ведь все с молодежью возится.
- А сегодня в "Содружестве"? Там и курсанты были, и матрос один был, студента знакомого я видел...
Марков остановился на Литейном мосту.
- Женя! А ведь хорошо жить! Как ты думаешь... Сейчас у нас двадцатый век. А в двадцать первом коммунизм устроят?
- Чудик! Тоже мне - в двадцать первом! Да он буквально в преддверии! Вот-вот мировая революция грянет. Ты что думаешь - в других странах рабочие дураки? Смотреть будут?
- Я в газете читал - буржуазия у них опять шевелится, опять войну готовит.
- Ну и готовит! Ну и пожалуйста! Одну войну устроят - четверть мира осознает. Вторую войну устроят - все люди осознают. На том песенка капиталистов и будет спета.
- Я тоже уверен. А сами-то они неужели не понимают?
Маркову нравилась решительность Стрижова. И хотя сам он знал все то, что говорил Стрижов, сам был тех же взглядов, но Маркову нравилось слушать. Когда другой приводил эти доводы, Маркову они казались еще несомненнее, еще тверже.