Александр Путятин - Огнем и мечом. Россия между «польским орлом» и «шведским львом». 1512-1634 гг.
Первый поход на Смоленск ясно показал Василию III, что для успеха предприятия нужно усилить осадную артиллерию. Военные действия лучше перенести на летнее время (когда легче находить корм многочисленным лошадям), а для того предварительно оградить южные рубежи от вторжения крымских татар. Решение о втором походе на Смоленск приняли на заседании Думы сразу после возвращения в столицу.
В соответствии с этим планом 14 июня 1513 года Василий III повел свою армию в Боровск. Но наступление пришлось отложить. С юга поступили сведения, что отряды крымских войск под командованием царевича Мухаммад-Гирея прощупывают оборону русских границ. Начались столкновения со степняками под Брянском, Путивлем и Стародубом. Татар с трудом удалось отогнать. Но еще весь июль на «крымской украйне» продолжались небольшие стычки… Пять русских полков дежурили до осени в районе Тулы, и столько же на реке Угре. «Посошные люди» и «дети боярские» охраняли броды и «перелазы» через Оку. В землях Стародубского княжества, еще одного из возможных направлений ордынской атаки, тоже были сосредоточены крупные силы. Лишь в начале сентября степняки ушли восвояси…
И сразу же русские войска ворвались в Литовскую землю. Великокняжеская армия в основном придерживалась прошлогоднего сценария. Легкоконные полки сожгли смоленские посады и двинулись дальше, а следом за ними 5 сентября вышли из Боровска главные русские силы. Под Смоленск Василий III прибыл 22 сентября с 80-тысячным войском. От трети до половины этой огромной армии составляли «посошные люди», призванные вести земляные работы и обслуживать артиллерийский парк. Русские воеводы учли уроки первого похода — для штурма города в войске имелось около двух тысяч «больших пищалей». По тогдашнему времени — весьма солидный «артиллерийский кулак». Таким можно было «постучать» в стены любой цитадели…
Однако и задача пушкарям предстояла нелегкая: Смоленск заслуженно считался первоклассной крепостью и гарнизон имел немаленький. А между тем время поджимало. Русские ядра пробивали стены, артиллерийским огнем была разбита одна из башен — Крыношевская. Но то, что разрушалось при свете дня, смоляне успевали восстановить ночью. Больше месяца русские войска безрезультатно пытались взять крепость. Приближалась зима. Снова, как и в прошлом году, начались проблемы с фуражом. А тут еще пришла весть, что для деблокады Смоленска король собрал 30-тысячную армию.
Василию III пришлось отступить. 21 ноября он вернулся в Москву. Но уже в феврале следующего года Дума приняла решение о третьем походе. Русское правительство учло уроки двух первых кампаний. Теперь было решено: не ждать окончания лета, а сразу, как высохнет весенняя грязь, идти с главной армией к Смоленску. Против крымцев планировали выставить сильный заслон под Тулой. Большую надежду Василий III возлагал на заключенный недавно договор со Священной Римской империей. Московский князь рассчитывал, что под влиянием империи Турция, союзник и покровитель Крыма, перенацелит Менгли-Гирея на польско-литовские «украйны».
Король Сигизмунд I попытался замириться с Москвой на условиях статус-кво, но Василий III отказался. 30 мая 1514 года он выдвинул передовые полки к Дорогобужу. Основные же русские силы во главе с самим великим князем выступили из Москвы 8 июня. Практически одновременно с этим к Орше направились новгородские войска. Таким образом, уже в начале лета под Смоленском собрались примерно те же русские силы, что и прошлой осенью. Только времени для обстрелов и штурмов у них теперь было вдоволь. 29 июня заговорили «пушки великие». Первый же выстрел попал в цель, уничтожив одно из мощнейших крепостных орудий. При взрыве пороха погибли все, кто находился в башне.
Дальнейший обстрел показал, что первый успех не случаен. Новый московский «наряд» (по разным данным, от 140 до 300 пушек) сокрушал стены и башни. Часть орудий стреляла «ядрами мелкими, окованными свинцом» (скорее всего, речь идет о картечи). Уже через несколько часов после начала обстрела над воротной башней города появился белый флаг: смоленский наместник Юрий Сологуб и епископ Варсонофий попросили московского князя об однодневном перемирии. В ответ Василий III потребовал немедленно сдать город, а получив отказ, тут же возобновил бомбардировку. Под давлением «черных людей» Смоленска, не желавших больше сражаться с русскими, власти города согласились на капитуляцию.
Московский князь проявил великодушие: условия сдачи были очень мягкими. Новый хозяин города обязался управлять им «по старине», «не вступаться» в вотчины бояр и монастырей. Великий князь запрещал своей властью принимать в «закладчики» мещан и «черных людей». Со смолян не дозволялось взимать подводы под великокняжеских гонцов[3]. Кроме того, Василий III обязался принять на русскую службу всех желающих и выдать каждому по два рубля и по куску английского сукна. Он обязался платить государево жалованье всем, кто останется служить в Смоленске, и при этом сохранить за ними поместья и вотчины; обещал выдать деньги «на подъем» тем ратникам, кто пожелает перебраться в Москву; гарантировал свободный выезд в Литву любому, кто не хочет оставаться в России.
Такая щедрость имела свои резоны. Василию III важно было добиться капитуляции Смоленска до подхода главных литовских сил. Учитывал он и опасность, исходящую от крымского ханства. Кроме того, московский князь хотел, чтобы Смоленск послужил примером для всех жителей Литвы, кто подумывает о переходе в русское подданство. А потому, вдобавок к прочим милостям, Василий III освободил смолян от некоторых «старых» налогов. Известие об этом городские послы приняли с благодарностью.
На следующий день, 30 июля, московские дьяки переписали горожан, а воевода Щеня привел их к присяге. 1 августа 1514 года Василий III в сопровождении епископа Варсонофия торжественно вступил в Смоленск. Народ, прослышавший о «московских милостях», встречал его радостными криками. Наместником Смоленска великий князь назначил боярина Василия Шуйского. Юрий Сологуб, пожелавший вернуться к королю, был отпущен на все четыре стороны. Однако Сигизмунд I не оценил его преданности: за сдачу Смоленска Сологуба обвинили в измене и отрубили голову.
Впрочем, совсем уж без предательства в этом походе не обошлось. Князь Михаил Львович Глинский обиделся, что наместником Смоленска назначили не его. Бывший литовский «перелет» задумал вернуться и вступил для этого в переговоры с Сигизмундом I. Тот переслал князю охранную грамоту, которую Глинский должен был показывать литовским отрядам по дороге в Оршу. Однако оставлять перебежчиков «без догляда» было, как видно, не в московских обычаях. Один из слуг Глинского доложил князю Михаилу Голице о бегстве господина и даже указал дорогу, по которой он двинулся в Литву. В ту же ночь Глинского догнали и схватили. А изъятая у него Сигизмундова грамота из охранного документа превратилась в неопровержимую улику.
Но поймавшие Глинского воеводы, князь Михаил Голица и боярин Иван Челядин, обладали, похоже, только сыскными талантами. Получив под свою команду большую армию, они проиграли генеральное сражение при Орше. 8 сентября 1514 года у слияния реки Крапивна с Днепром 30-тысячное литовское войско под командованием князя Константина Острожского разгромило их наголову. После этого на сторону Сигизмунда переметнулись города Дубровны, Мстиславль и Каючев. Правда, русских гарнизонов там не было. Местные феодалы, недавно перебежавшие на сторону «московитов», вернулись к королю, как только удача снова повернулась к нему лицом.
В Смоленске сторонники Сигизмунда устроили заговор, во главе которого встал, как ни странно, епископ Варсонофий. Он отправил к королю племянника с переметным письмом. Однако московский сыск и здесь сработал на «отлично». Кто-то из смолян донес на заговорщиков Василию Шуйскому. Наместник велел схватить изменников и доложил о них великому князю. Судя по тому, что Сигизмунд смог послать к хорошо укрепленному Смоленску лишь шеститысячный отряд, оршанская победа досталась литовцам недешево. Руководившего этим рейдом Острожского город встретил запертыми воротами и свежими трупами, «украсившими» крепостные стены. По свидетельству летописца, Шуйский велел повесить заговорщиков[4] так, что «…который из них получил от великого князя шубу, тот был повешен в самой шубе; который получил ковш серебряный или чару, тому на шею привязали эти подарки…»{3}.
Тщетно Острожский посылал смолянам «прелестные» грамоты, королевских сторонников среди них больше не осталось. Предпринятый вскоре штурм показал, что остальные жители Смоленска не только хранят верность присяге, но и бьются крепко. А когда Острожский снял осаду, смоляне и московские ратники преследовали его отряд, отбив в дороге почти весь литовский обоз. Таким образом, Оршанская победа мало что дала Сигизмунду. Смоленск остался за «московитами». Не последнюю роль здесь сыграло то, что православные шляхтичи, как русского, так и литовского происхождения, не обнаруживали большого желания воевать против Василия III. Имеются много свидетельств, что в те годы они массово уклонялись от «господарской службы». Особенно это касается южных районов, страдающих от татарских набегов.

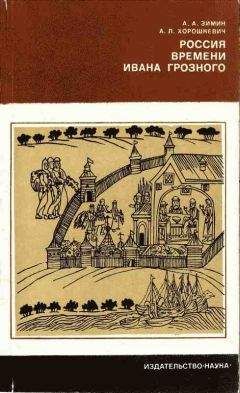
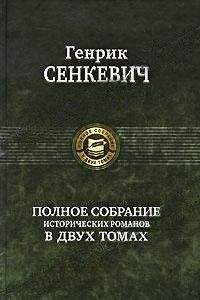
![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/217250/217250.jpg)
