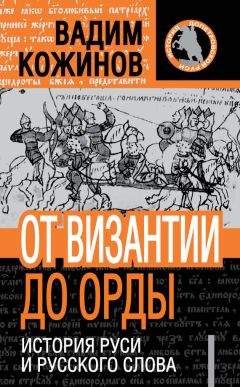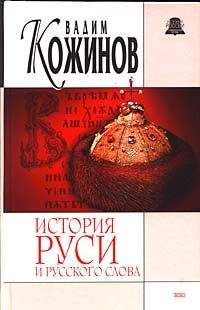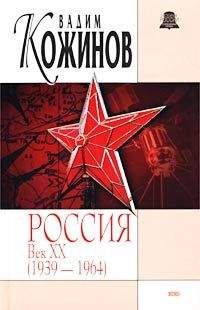Вадим Кожинов - История Руси
Но уместно напомнить, что еще в 1827 году (когда Белинский был пензенским гимназистом), сразу после появления в печати сцены ("Ночь. Келья в Чудовом монастыре") из "Бориса Годунова" - одного из первых подлинно зрелых пушкинских творений,- Дмитрий Веневитинов писал:
"Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гете". С явлением же творения в целом "не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музы обогатятся образцовым произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых".
Мнение Веневитинова безусловно разделяли и другие "любомудры" - братья Киреевские, Владимир Одоевский, Погодин, Тютчев, стремившийся определить в 1836 году, "отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами" (среди коих числились тогда ни много ни мало Мюссе, Ламартин, Альфред де Виньи, Беранже, Жерар де Нерваль, Барбье и сам Гюго...). Впрочем, еще в 1831 году крупнейший тогда русский мыслитель Чаадаев сказал о Пушкине: "...вот, наконец, явился наш Дант".
Словом, есть вроде бы основания усомниться в правоте Вернадского, утверждавшего, что в России "совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя".
Вернадский, в частности, выразил удивление по поводу того, что "в расцвет творческого выявления Толстого" Пекарский (и, конечно, вовсе не только он) продолжал полагать, что русская литература не имеет никакого мирового значения и "ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур". Но ведь именно в то самое время, сразу же после завершения печатания "Войны и мира", Николай Страхов, подводя итог своим глубоко содержательным размышлениям о толстовской эпопее, совершенно верно утверждал, что она "принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего..." То есть современник, даже прямой ровесник Толстого, дал оценку, которая теперь является общепринятой!
И все же... все же Вернадский был по-своему прав. Ибо ясно, что высказывания и оценки любомудров, славянофилов или "почвенников" (к которым принадлежал Страхов), не имели и сотой или, пожалуй, даже тысячной доли того общественного резонанса, каковым обладали суждения "прогрессивных" критиков и публицистов - Белинского, Чернышевского, Михайловского и т. д. Резко "сниженные" или попросту уничтожающие отзывы о "Войне и мире" в статьях таких влиятельнейших тогда авторов, как Писарев, Шелгунов, Берви-Флеровский, Зайцев, Минаев и др., совершенно заглушили голос Страхова... Едва ли расслышал его и сам достаточно чуткий Вернадский! И потребовалась позднейшая "поддержка" из-за рубежа (в частности, того же де Вогюэ, которого упоминает Вернадский), чтобы "Война и мир" получила в России действительное признание.
Эта своего рода закономерность развития русского культурного самосознания была уяснена давным-давно. Еще в 1839 году Иван Киреевский, размышляя о духовных ценностях русского Православия, утверждал:
"Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем".
В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить внимание русских читателей на весьма ценное в его глазах сочинение Хомякова, сам переводит его на французский язык и отправляет перевод своему парижскому знакомцу графу де Сиркуру: "...берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомякова... наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы - это делать их достоянием широких кругов европейского общества. Как ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая привычка руководствоваться мнением вашей публики" (стоит отметить, что и в наше время, например, широкое признание трудов М. М. Бахтина в России совершилось лишь после высшей оценки их на Западе)3.
Таким образом, Вернадский в более обобщенном виде сказал о том, о чем русские мыслители говорили еще столетием ранее. Но размышление Вернадского приводит к очень существенному итогу, которого я еще не касаeся.
* * *
Говоря об "открытии" средневековой русской иконописи и зодчества, Вернадский утверждает: "Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при том условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды. И совершенно ясно, что его (древнерусского искусства.- В. К.) осознание есть сейчас факт крупнейшего значения в жизни нашего народа.
Сейчас, мне кажется, мы подходим к новому явлению того же характера. Начинает вырисовываться неосознанная новая сторона нашей вековой духовной работы - работы русского народа и Русского государства в научном творчестве. Настала пора его выяснения... Что, научная работа русского народа является малозаметным явлением в росте знания человечества? Что, русская мысль теряется в мировой работе? Или гений нашей страны и здесь, как и в художественном отражении нас окружающего, выявил новое, богатое, незаменимое, единственное" (цит. соч., с. 314).
И Вернадский сетует, что "нами обычно забывается связь отечественной науки с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы открытием северной Азии, северных морей и пролива, отделяющего Евразию от Америки. Несомненно, эта работа старых веков, XV-XVII, была по своим научным последствиям столь же высокой важности научным достижением, как то раскрытие карты мира, какое совершено было моряками Запада XIV-XVIII столетий" (цит. соч., с. 314-315).
В высшей степени важно обратить сугубое внимание на тот факт, что Вернадский подчеркнуто ставит и иконопись, и "научную работу" в нераздельную связь со всей цельностью истории русского народа, укореняет художественное и научное творчество во всей полноте народно-исторического бытия России. Разумеется, это всецело относится и к русскому словесному творчеству.
И все это имеет глубокий и острейший смысл. В силу ряда причин (о них еще пойдет речь) русская литература как бы выделена в общественном сознании (во всяком случае, в представлениях большинства людей) в некую замкнутую сферу, словно бы даже самодовлеющий мир, возвышающийся над русской жизнью как таковой, над отечественной историей в ее реальной земной полноте.
Я отнюдь не считаю, что русская литература,- как и культура в целом,есть прямое "отражение" или "воспроизведение" русской жизни; такой подход к делу - это прежде всего упрощенное, примитивизирующее истолкование культуры. Гораздо более верно понятие о творениях культуры (и, конечно, литературы) как о плодах - своего рода "последних", высших достижениях исторического творчества, плодах, которые, в частности, вовсе не обязаны быть "похожими" на свои жизненные корни. И, представляя собой порождения истории, творения культуры сами естественно становятся феноменами истории; трудно спорить с тем, что, скажем, былины об Илье Муромце, рублевская Троица, архитектурный мир Московского Кремля, "Жизнь за Царя" Глинки, толстовская "Война и мир" или лирика Есенина - это, без сомнения, реальные факты, события русской истории, прямо и непосредственно участвующие в ней.
В то же время они, конечно, представляют собой именно порождения этой истории, принципиально не могущие содержать в себе ничего такого, чего не было бы в самой истории. А между тем господствует мнение, согласно которому в России была, дескать, только великая, безмерно богатая и полная смысла литература (и, отчасти, культура вообще). Это выражено, например, в известном всем и каждому тургеневском стихотворении в прозе 1882 года "Русский язык" (в понятие "язык" здесь, безусловно, включена литература):
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! - Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? - Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!"
Итак, в России только слово несет в себе несомненное величие, а все, что "совершается" в ней, то есть ее целостное бытие, способно вызвать лишь "отчаяние"...
Это в конце концов попросту странное представление (оно ведь неизбежно подразумевает, что словесное инобытие России в творениях Пушкина, Тютчева, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова как бы не имеет непосредственного отношения к порождающему чувство "отчаяния" русскому бытию) все же прочно внедрилось в сознание множества людей и особенно "расцвело" после 1917 года. Так, Луначарский писал в 1924 году, что-де "почти у всякой русской писательской могилы" (далее перечислялись многие имена от Радищева до Толстого) "можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех их она... обузила, обгрызла, завела не на ту дорогу. Если же все же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она".