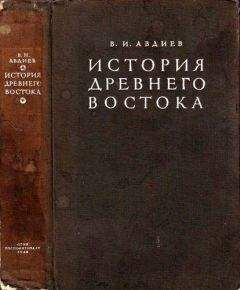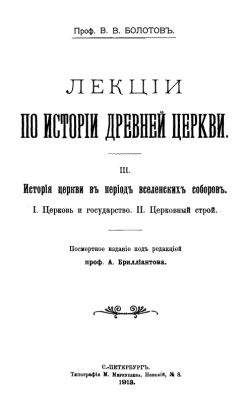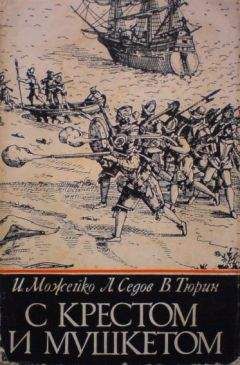Татьяна Григорьева - Япония: путь сердца
Илл. 5. Евгений Трубецкой
Измена Культуре равнозначна измене национальному Пути, нарушению вселенского порядка. Рабиндранат Тагор, посетив Японию в 1916 году, когда вышла упомянутая книга Трубецкого, тоже испытывал чувство тревоги: «Долг каждой нации – проявить перед миром свою национальную сущность. Если же нация ничего не дала миру, это следует считать национальным преступлением. Это хуже смерти и не прощается человеческой историей. Нация обязана поделиться лучшим, что есть у нее. Благородная душа и есть сокровище нации. Ее долг, одолевая предрассудки, отправить всему миру приглашение принять участие в празднике ее духовной культуры»[13].
Культура общечеловечна, потому что национальна. Национальная культура являет себя в неповторимой форме, будучи хранительницей духа своего народа. Но если оскудевает ее источник, страдают все народы. Невидимыми нитями соединяется один народ с другим, и важно, чтобы не оборвались эти нити под тяжестью невежества и тупости. Умирает культура, умирает язык – ее животворящая сила: душа покидает тело нации. Это – всемирный грех, ибо национальные культуры кровно связаны между собой, и если какая-то теряет себя, то страдают все.
Илл. 6. Рабиндранат Тагор
Идея Всеединства в предгрозовые времена начала XX века возвысила наряду с русской и индийскую мысль. «То, чего сегодня ждет весь мир, – .это грандиозная идея духовного Единства Вселенной, – возвещал Вивекананда. – Единственная и бесконечная сущность в вас, во мне, во всех. идея, что вы и я не только братья, но вы и я – одно»[14]. Француз Ромен Роллан, брат индийских мистиков по духу, писал: «У всякой нации, как и у каждого отдельного человека, есть в ее жизни одна-единственная тема, которая служит центром ее существования, основная нота, вокруг которой группируются все остальные ноты гармонии. Если она ее отбросит, если она отбросит принцип своей собственной жизненности, направление, переданное ей веками, – она, эта нация, умирает»[15]. Инстинкт самоспасения заставляет Россию искать национальную идею, вот только найти ее она все никак не может. Не потому ли, что не там ищет?
Илл. 7. Ромен Роллан
Тревожились те, кто надеялся спасти людей от мирового кошмара. Тогда и появилась книга Освальда Шпенглера «Закат Европы» – сигнал бедствия, потрясший умы. Прежде всего, это несогласие автора с одномерной логикой, линейным, плоскостным мышлением. Отгородив человека от мира, такое мышление опутало людей иллюзиями. Одной из иллюзий была идея «прогресса», подгонявшая историю двигаться вперед, что есть сил, пока она, история, не лишилась чувств.
Вместо монотонной картины мировой истории Шпенглер увидел многообразие культур, каждая из которых следовала своей идее. «Наконец стало совершенно ясно, что ни один фрагмент истории не может быть полностью освещен ранее уяснения тайны всемирной истории вообще, вернее говоря, истории более развитого человечества как органического единства, имеющего правильную структуру»[16]. Значит, опрометчив европоцентризм: западноевропейская культура исключение, а не правило.
В науке господствовало представление о последовательной смене эпох, формаций – следствие все той же одномерной логики. «Древность – Средневековье – Новое время: такова та невероятно скудная и бессмысленная схема, абсолютное господство которой над нашим историческим сознанием всегда мешало нам правильно оценить… территории Западной Европы, понять ее действительное место в системе всемирной истории, уразуметь ее смысл, ее облик и особенно продолжительность ее жизни» (с. 20). С тех пор мало что изменилось. Видимо, труднее всего меняется сознание – легче всего просто признать его «несчастным».
Тип мышления, унаследованный от греков и египтян, предполагает господство «прямой линии» и «прямого угла». Логика мысли обусловила логику истории: каков человек, таков и мир. Вместо монотонного образа растянутой в линию всемирной истории «я вижу множество могучих культур, с первозданной силой расцветающих на лоне родной местности. Каждая из них дает собственную форму своему материалу – человечеству; каждая из них имеет собственную идею, собственные жизнь, волю, чувство и собственную смерть», – писал Шпенглер (с. 27).
Илл. 8. Дорога в храм Дзякко-ин, Охара
Илл. 9. Храм Бёдо-ин, Удзи
Но как уловить историю, если сама она – бесконечное становление? Становление, считает Шпенглер, может быть только пережито. Отвергая прямолинейность, созерцая историю с высоты полета, он признает три эпохи: Отца, Сына и Святого Духа, но они остались для него как бы в тумане. История есть образ души, душа же смертна. Сама Фаустовская душа, по его мнению, предвещает конец мира. «Все возникшее преходяще… Все преходящее есть только символ» (с. 213–214). Но что стоит за этим символом?
Освальд Шпенглер готов признать, что в основе каждой великой культуры лежит Перводуша, обусловившая ее судьбу, но не видит высшего смысла. Отсюда, считает он, – одиночество Фаустовской души, ее неприкаянность. Жизнь идет по нисходящей – превращается в механизм, а идея благодати – в половое влечение. Верховным становится культ полезного. Цивилизация, поглощая культуру, обрекает ее на смерть: культура переходит из органического состояния в неорганическое. Шпенглер уверяет, и не без оснований, что чем ниже опускается культура, тем выше поднимается спорт, и все уподобляется игре, в том числе искусство. Игра не требует работы ума. Не оттого ли ныне она вошла в моду?
Если культура как любой биологический организм проходит одни и те же биологические стадии: рождения, взросления, увядания и смерти, – значит, ее гибель неизбежна. Признавая, что логика уподобилась механике, Шпенглер не остается свободным от рокового дуализма, когда одно противостоит другому: цивилизация – культуре, мертвое пространство – живому времени, человек – цивилизации, человеку культуры. И это противостояние неизбежно. Так, страх греков перед бесконечностью сменился противоположной ему фаустовской страстью к бесконечному. Отсюда и чувство неукорененности, утраты опоры в вечности[17]. Называя культуру «высоко развитой душой», О. Шпенглер не верит в бессмертие самой души. Но к духу неприложимы законы органического мира. Философ сам с собой вступает в противоречие, утверждая, что все движется на поверхности, пребывает в покое на глубине, а на высоте созерцания противоположности уничтожаются[18].
Илл. 10. Освальд Шпенглер
Однако как же достичь высоты созерцания, если унаследованная логика препятствует этому? – задаются вопросом русские философы, откликнувшиеся на книгу Шпенглера[19]. Почти каждый автор этой удивительной книги – «Освальд Шпенглер и Закат Европы» – разделял его критический взгляд, но упрекал в отсутствии религиозного чувства, ощущения Праосновы, извечности духовной культуры, – абсолютной Истины. О. Шпенглер, по их мнению, представил нечто эмпирически живое, но трансцендентально мертвое, хотя ему не чуждо чувство Мировой души, где вечно присутствуют прообразы культур. Эта Мировая душа время от времени отпускает души вселенских культур и принимает их обратно по завершении пути.
Илл. 11. Николай Бердяев
За изложением живых фактов Семен Франк увидел у Шпенглера проникновение в абсолютное и вечное живое единство бытия и жизни, и этому не помешало отсутствие у последнего религиозной интуиции. Христианство у Шпенглера исчезает, тогда как История, по мнению Франка, при всей случайности и хаотичности внешних событий, предстает необходимым осуществлением, каждый момент которого имеет свою самодовлеющую ценность в силу всеединства сверхвременного бытия. У Шпенглера, однако, есть лишь субстрат истории в виде Перводуши, в лоне которой пребывают до поры до времени души культур, но нет субъекта истории, ее созидателя.
По мнению Федора Степуна, Освальд Шпенглер ощущал Мировую душу, хотя и говорит о ней туманно. Каждая культура, как Сатурн кольцом, опоясана своим роковым одиночеством, и все же в каждой из них разлит свет Мировой души. «В этой мировой душе все вечно пребывает; в ней и поныне живут потерянные трагедии Эсхила»[20], и не как созданные формы, а в невысказанной и неразрушимой первосущности.
Николай Бердяев свои размышления о книге Шпенглера назвал «Предсмертные мысли Фауста». Судьбу европейской культуры Бердяев сравнивает с судьбой Фауста, возжелавшего господства над миром, но истощившего себя в бездуховной цивилизации: для него померк свет Логоса. Культура имеет своим истоком культ предков, она невозможна без священных преданий. Культура органична, от нее зависит качество жизни человека. Каждая культура имеет свое лицо, она индивидуальна, и это позволяет ей одухотворять сущее. Цивилизация же механична, безлика, бездуховна, ее мера – количество. «Нас, русских, нельзя поразить этими мыслями. Все русские религиозные мыслители утверждали это различие между культурой и цивилизацией»[21].