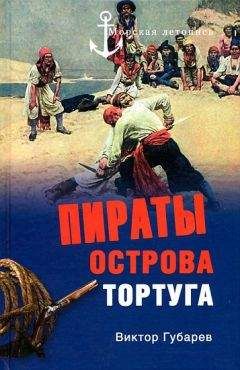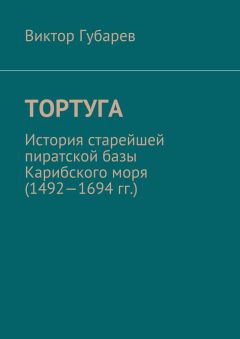Борис Григорьев - Повседневная жизнь российских жандармов
XVII столетие российской истории часто называют «бунташным веком», и это определение не лишено оснований. Достаточно перечислить лишь наиболее масштабные народные восстания того времени: Соляной бунт 1648 года в Москве, Хлебный бунт 1649 года в Пскове и Новгороде, Медный бунт 1662 года в Москве, восстание Степана Разина и его атаманов в 1670–1671 годах.
Царствование Михаила Романова с точки зрения политического сыска было более-менее спокойным, поскольку было избавлено от заговоров, чего нельзя сказать о правлении его сына Алексея. Впрочем, жизнеописания обоих царей не содержат никаких упоминаний о реальных попытках устранения их с трона или покушений на их жизни, хотя, конечно, не обошлось без модной для того времени боязни «колдовства, сглазу и других практик», которые могли повредить государю и членам его семьи.
Так, в 1638 году в этом тяжком преступлении была обвинена придворная мастерица Дарья Ламанова, которая якобы хотела «пепел сыпать на государской след». В результате следствия, к которому были привлечены 15 человек и в ходе которого в традициях того жестокого века широко применялись пытки, подследственных обвинили в смерти двух сыновей царя Михаила Федоровича — Ивана и Василия и в ухудшении здоровья царицы Евдокии Лукьяновны (Стрешневой), Позднее, в 1642–1643 годах, в аналогичном преступлении — «порче» царицы Евдокии — был обвинен «тюремный сиделец» Афанасий Каменка, который под пыткой признался, что хотел царицу «уморить до смерти, а дать ей в питье траву…». Вопрос о том, как он мог совершить это преступление, сидя в тюрьме, следствие по понятной причине совершенно не интересовал.
Но все эти дела, по сравнению с размахом сыскного дела при Иване Грозном, представляли собой детские забавы.
На Руси всегда, а во времена усиления единоличной власти царя при Иване Грозном — особенно, самым главным законом считалась «воля государева», а в такой отрасли уголовного права, как государственные преступления, роль и позиция царя в расследовании и наказании были определяющими. Государственным преступникам вменяли в вину измену, крамолу, покушение на жизнь царя или ересь, и под эти понятия подводились все или почти все деяния.
Произвол царя в сыскном деле был определяющим, но мы знаем из истории, что какие-то рамочные законы в стране все-таки существовали и кое-как выполняли функции юридического регулирования жизни людей. Впервые государственное преступление как таковое упоминается на Руси в памятнике XIV–XV веков в Псковской Судной грамоте, где в статье 7-й речь идет о «переветнике», то есть изменнике, перешедшем на сторону врага. В Судебнике 1497 года, являвшемся кодексом общерусского значения, в статье 9-й, перечисляющей особо опасные преступления, каравшиеся смертной казнью, наряду с уголовными преступниками упоминаются «коромолник» (бунтовщик, мятежник или заговорщик) и некий «подымщик» (подстрекатель или зачинщик восстания). В новом Судебнике 1550 года в 61-й статье, содержащей перечень преступников, подлежащих за свои «воровские» дела смертной казни, рядом с «коромольником» появляется «градский здавец», то есть военачальник, сдавший город неприятелю, а загадочный «подымщик» уже не упоминается. Н. М. Карамзин объясняет, что подобная предубежденность Ивана IV была небезосновательной: слишком много ненадежных воевод развелось у царя, так что он был вынужден предусмотреть для них особую статью в своем законодательстве.
Алексей Михайлович Тишайший решил особо озаботиться своим авторитетом и своей безопасностью, и знаменитое Соборное уложение 1649 года предусмотрело на этот счет специальную вторую главу — «О государьской чести и как его государьское здоровье оберегать». В ней речь идет о трех видах государственных преступлений: о преступлениях против здоровья и жизни государя; об измене, то есть о преступлении против власти государя, которое выражалось в смене подданства, бегстве за рубеж, в связях с неприятелем во время войны, а также в сдаче крепости врагу, причем не только в виде прямых действий, но и в виде намерений совершить эти действия («умысел»); и, наконец, о «скопе и заговоре». Таким образом, все государственные преступления в Уложении практически сводились к двум их важнейшим видам: к посягательству на жизнь и здоровье государя и на его власть. Любое покушение на жизнь, здоровье и честь царя и его семьи рассматривается впредь с точки зрения закона как тягчайшее преступление против государства и Церкви.
Следует отметить, что розыскная и судебная практика того времени была значительно шире этих законов. В них, например, не упоминались такие широко распространенные в обыденной реальности жизни политические преступления, как «непристойные слова» о государе, его семье, предках, его распоряжениях, грамотах, царском гербе и титуле; ошибки в произношении и написании титула царя, отказ присоединиться к здравице в его честь, непроизнесение молитвы за его здоровье и непожелание ему «долгих лет» и другие подобные деяния, считавшиеся по давней традиции столь же опасными государственными преступлениями.
Как на практике рассматривались политические дела подобного рода уже после принятия Уложения, можно судить по делу холопа Сумарокова, который в 1660 году, стреляя по галкам из пищали, попал пулей в царские хоромы, за что по приговору специально созданной для расследования этого дела следственной комиссии ему отсекли правую ногу и левую руку. А известный в русской и шведской истории дьяк Посольского приказа Григорий Котошихин, ставший потом тайным агентом шведской разведки и одним из первых русских перебежчиков в Швеции, допустив в царской грамоте ошибку в перечислении многочисленных титулов «тишайшего» царя, был нещадно бит батогами.
Следует также отметить, что первые цари из династии Романовых не брезговали лично заниматься делами политического розыска. Михаил Федорович и Алексей Михайлович охотно присутствовали на допросах и пытках государственных преступников. Так, в 1670 году царь Алексей Михайлович, которому симпатизировал Николай II за его кроткий и незлобивый характер, был в застенке, где пытали за «непристойные слова» в подметном письме боярина Матвеева Кирюшку, после чего лично вынес ему приговор о ссылке.
Стрельцы должны были в мирное время нести охрану столицы и царской резиденции — Кремля, а в военное время участвовать, наряду с другими войсками, в военных действиях, то есть мы видим здесь совмещение охранных обязанностей с функциями чисто военными. Наиболее почетной считалась служба в Стремянном полку, который нес охрану царя во время выездов из Москвы и участвовал в оцеплении на улицах, по которым проезжали иностранные послы, следовавшие на прием к царю.
Что же представляло собой стрелецкое войско середины и конца XVII века? Численность его достигала 20 тысяч человек. Стрельцы со своими домочадцами жили в Москве в отдельных слободах. Войско, как правило, пополнялось за счет детей стрельцов и реже — за счет вольных людей, «резвых и стрелять гораздых», за которых должны были поручиться как минимум два старослужащих стрельца. Из казны на них выделялось до 100 тысяч рублей жалованья. Оружие и форма выдавались им также за счет казны, а лошади — из царской конюшни. В каждом стрелецком полку был свой цвет форменной одежды, состоящей из суконного кафтана, обшитого галунами, ярко-желтых или красных сапог и бархатной шапки, отороченной мехом.
Своего наивысшего расцвета и значения стрелецкие формирования достигли после смерти царя Федора Алексеевича, когда развернулась ожесточенная борьба за власть между молодым Петром I и его единокровной сестрой Софьей, опиравшейся на городовых стрельцов, выполнявших еще со времен царя Алексея охранные и полицейские функции. Софья пыталась использовать их в своих корыстных личных целях против матери Петра — Натальи Кирилловны Нарышкиной, ее родственников и верного боярина Матвеева. Таким образом, стрельцы, втянутые иногда и помимо их воли в придворные интриги и борьбу за власть, в этот короткий промежуток времени фактически в большей степени решали судьбу кандидатов на царский трон, нежели несли их физическую охрану.
15 мая 1682 года вооруженные стрельцы, поднятые лживыми утверждениями клевретов Софьи Хованского и Милославского на бунт, известный в истории под названием «хованщина», жестоко расправились в Кремле с боярином Артамоном Матвеевым и князем Михаилом Долгоруким, сторонниками партии Нарышкиных, подняв их на копья, а потом изрубив саблями на мелкие куски. Разгоряченные первой кровью и первой победой стрельцы кинулись во дворец, требуя предъявить им якобы «убиенных» царевичей Ивана и Петра, и безжалостно убили еще двух Нарышкиных, братьев царицы. Это кровавое зрелище навсегда запечатлелось в сознании Петра I и не могло не оказать негативного влияния на его психику, сформировав устойчивую неприязнь и ненависть к стрельцам.