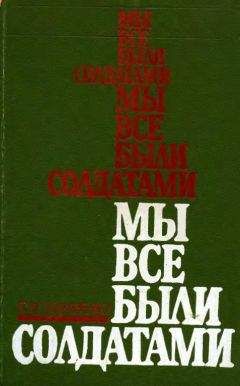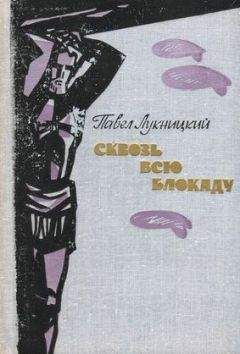Павел Полян - Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте
Стоит заметить, что аналогичная проблематика знакома не одной лишь истории, но и другим наукам, например социологии, демографии, даже географии. И что агрессивная зачистка грантового ландшафта России, изгнание из него иностранных или международных фондов не что иное, как классическая для России централизация и вертикализация этого поля, дающая власти дополнительные рычаги влияния на ситуацию и обеспечение нужного себе политического результата. Иными словами – на введение сиюминутного «историомора» в реальную жизнь.
Однако в каждый конкретный момент времени торжествует, увы, именно политика, определяющая ориентиры и рамки для работы ангажированных ею «карманных» историков и создающая рогатки для работы историков независимых и несервильных.
В советское время эта проблема была не так остра. Одной «Старой площади» – то есть аппарата ЦК КПСС с его отделами и подотделами – было совершенно достаточно для поддержания в форме идеологического фронта и пропагандистского противостояния внешним и внутренним врагам. Все необходимые «инструменты» были буквально под боком, через дорогу: как то КГБ («Лубянка») или Всесоюзное общество «Знание», уютно разместившееся под боком, во двориках Политехнического музея.
В условиях выборной демократии такая модель руководства не срабатывает. Отчасти поэтому постепенно в Восточной Европе – в Словакии, Польше, на Украине – выработалась модель Института национальной памяти. Очень скоро оказалось, что такие институты трансформировались в классические оруэлловские Министерства Правды. Злоупотребления чувствительной архивной информацией, оказавшейся в их распоряжении, обусловлены поручениями и заказами, целесообразными с точки зрения находящих у власти заказчиков, ибо они серьезно влияли на внутриполитические процессы («утечки» о сотрудничестве с органами своих политических оппонентов, например)[3]. Несколько неожиданным следствием этого в той же Польше оказались непомерные затруднения читателям в доступе к архивам Института, поглотившего многие ранее уже широко доступные архивные фонды[4].
Историомор, разумеется, не только российское явление. Вспоминаю реакцию японского издательства, выпустившего по-японски мою книгу об остарбайтерах и военнопленных[5]. На мое предложение написать для японского читателя небольшое предисловие издательство с радостью согласилось, а когда прочло – то решительно отказалось: чур, чур меня!.. В предисловии речь зашла о депортациях корейцев и китайцев и об их эксплуатации в годы японской оккупации, но, как оказалось, в Японии, сдавшей на одни пятерки чуть ли не все американские курсы демократии, разговор о японских военных преступлениях все еще был не комильфо.
Едва ли не единственным устойчивым примером противоположного государственного отношения к своему прошлому является Германия – первая в мировой истории страна, сумевшая принять на себя ответственность за случившееся. Никто в мире до этого ничего подобного не делал и, главное, не испытывал желания делать. Но и в Германии многие десятилетия ушли на избавление от реликтов национал-социалистического мировоззрения и даже законотворчества, а официальное признание элементарного и очевидного факта (советские военнопленные – не военнопленные в смысле Женевской конвенции, а специфическая и непризнанная категория жертв) состоялось только в мае 2015 года (см. ниже).
Историомор многолик, и к одному только государственному насилию или заказу не сводится[6]. Корпоративный или даже индивидуальный исторический фальсификат, как и его преподавание в школах и вузах, – тоже соответствует этому термину, как и искреннее нежелание многих, особенно молодежи, знать правду. Конфликты исторической памяти возможны и неизбежны не только в пределах одной семьи, но и в пределах одной личности.
Тематика историомора необъятна, и книга не претендует на ее полное отражение. Но на заострение внимания к некоторым из проблемных узлов, автору, в силу его научных интересов, хорошо известных, – претендует.
Февраль-март 2016 года
Память о ГУЛАГе и депортациях
Низкорослый гигант, или биография как история болезни: Иосиф Сталин и его победы
Роберт Чарльз Такер – наряду с Кеннаном, Конквестом, Коэном или Пайпсом – признанный классик американской советологии.
Его жизнь была долгой: родился 29 мая 1918 года в большом городе (Канзас-Сити) и у большой реки (Миссури) – умер 29 июля 2010 года в тишайшем университетском Принстоне. Дипломы бакалавра и магистра получал в самом знаменитом университете Америки – Гарвардском. Карьеру начинал в годы войны в разведке (Управление стратегических исследований – предтеча ЦРУ), а с 1944 по 1953 год прослужил в посольстве США в Москве. Его двухлетний контракт растянулся на почти 10 лет, – но не по служебной надобности, а по личным обстоятельствам – из-за женитьбы в 1946 году на советской девушке, с которой познакомился чуть ли не в Большом театре.
Такие браки не поощрялись в Совдепии никогда, но с 15 февраля 1947 года, после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР «О запрещении браков советских граждан с иностранцами», они и вовсе перестали быть легитимными. Мотивировка указа («В непривычных условиях за границей советские девушки чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации», – а то на родине они все исключительно счастливы!) распространялась и на тех, кто вышел замуж еще до указа: оберегая от неизбежных притеснений на чужбине, последним просто-напросто не выдавали выпускных виз – не выпускали из страны.
После смерти Сталина указ отменили, и только тогда Такеры смогли покинуть Москву. Но Евгении Пестрецовой-Такер еще сильно повезло: ведь такие браки (а на волне совместной победы их было и впрямь немало) могли иметь и имели куда более драматическое развитие. Как только счастливые молодожены-дипломаты уезжали к себе в Лондон или Вашингтон, – рассчитывая, что скоро встретят своих избранниц в Хитроу или в вашингтонском аэропорту, их жен арестовывали, обвиняли в «шпионаже» и отправляли в ГУЛАГ[7]. Но Такер, видимо, лучше других понимал, где находится, и не допустил по отношению к своей жене такой преступной беспечности. Он терпеливо продлевал и продлевал контракт, пока не дождался смерти того, о ком потом будет писать книги.
Однако сама эта история, как бы опалив брови начинающего разведчика и дипломата, легла в основу его бесценного личного жизненного опыта. Вкупе со всесторонним знанием советской прессы, так и распираемой культом личности вождя, история собственной женитьбы придала отношениям Такера если не со Сталиным, то с созданной им системой несколько личный оттенок и очевидно помогла со временем развернуться в сторону будущей и главной профессии – политической истории.
Несомненно, Такер тайно завидовал своему британскому коллеге Максу Хэйварду[8], работавшему переводчиком в английском посольстве в 1947–1949 гг., когда тому однажды пришлось сопровождать своего посла в Кремль, к Сталину, и переводить им! Слух о том, что Хэйвард в присутствии Сталина буквально онемел, скорее легендарен, но Хэйвард наверняка рассказывал Такеру об этом в Москве.
Сам Такер однажды тоже переводил в Кремле, но десятилетием позже, когда в 1958 году вновь приезжал в Москву в качестве переводчика Адлая Стевенсона, кандидата в президенты США. Кстати: по ходу беседы Стевенсон попросил Никиту Хрущева о пустячной любезности – отпустить в Америку тещу своего переводчика: отпустили.
…Любящий зять к этому времени работал в Рэнд Корпорэйшн (армейском исследовательском центре), был гарвардским аспирантом. В том же 1958 году он защитил диссертацию, легшую в основу его первой книги – «Философия и миф Карла Маркса» (1961). Похоже, что, при всем уважении к автору «Капитала», Такер решил приглядеться и к первоисточникам сталинизма.
В 1962 году, простившись и с Гарвардом, и с Индианским университетом в Блумингтоне (где он некоторое время поработал), Такер перебрался в Принстон. Здесь он и провел вторую – бо2льшую – половину своей отныне оседлой и всесторонне обустроенной профессорской жизни, в окружении любящих учеников и семьи[9]. Придя на отделение политологии, он вскоре стал основателем и первым директором отделения российских (ныне – российских и евразийских) исследований.
С Маркса, кстати, он переключился на марксизм – и выпустил книгу «Марксистская революционная идея» (1969). Следующая книга, где он от марксизма как доктрины перешел к одному видному творческому марксисту, в его теоретическом становлении и практическом действии, – это первый том задуманной им биографической трилогии о Сталине. Она вышла в 1973 году, и называлась «Сталин как революционер: историческое и биографическое исследование, 1879–1929 гг.». Эта работа (кстати, посвященная жене) принесла автору не просто известность, но и Национальную книжную премию США в исторической номинации и еще самую настоящую славу.