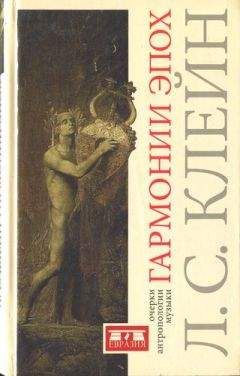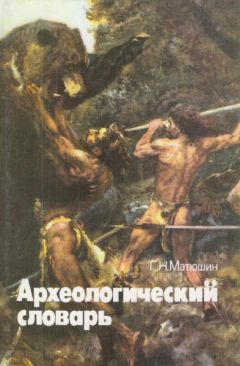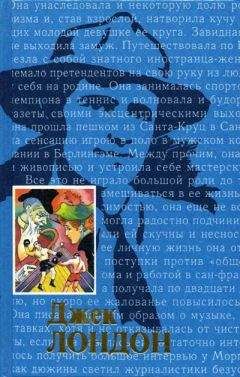Джон Зерзан - Первобытный человек будущего
Фрэнк Лентриккия назвал деконструтивистский проект Деррида «изысканной, властной общей теорией, сравнимой в истории философии лишь с теорией Гегеля». Забавно, однако, что постмодернистам требуется общая теория для обоснования собственных суждений — например, почему не может и не должно существовать никаких общих теорий или метанарра-тивов. Сартр, теоретики гештальта и здравый смысл показывают нам, что то, что постмодернисты отвергают как «тотализующий разум», на самом деле является неотъемлемым свойством восприятия: человек, как правило, видит нечто целостное, а не изолированные фрагменты. Чарльз Алтьери обнаружил у Лиотара еще один забавный момент: «Этот мыслитель чрезвычайно четко осознает опасность, которую представляют большие нарративы, но при этом остается абсолютным приверженцем авторитета общей абстракции». Постмодернисты декларируют антиуниверсалистские позиции, но на практике — Лиотар, наверное, в большей степени — они сохраняют высокий уровень абстракции, когда речь идет о культуре, современности и прочих подобных темах, которые, конечно, и сами по себе — широкие обобщения.
«Освобожденное человечество, — писал Адорно, — ни в коем случае не будет единым целым». Тем не менее, мы продолжаем жить в едином обществе, которое нас и объединяет в полном смысле слова. Постмодернизм со своей прославленной фрагментацией и многообразием может забывать о тотальности, но тотальность вряд ли нас забудет.
ДЕЛЁЗ, ГВАТТАРИ И БОДИРИЙЯР
«Шизополитика» Жиля Делёза отталкивается — по крайней мере, отчасти — от господствующего в постмодернизме отрицания общих представлений. Метод Делёза, называемый также «номадологией», обращается к «ризоматическому письму» и отстаивает позиции детерриториализации и декодирования доминационных структур, посредством которых капитализм преодолеет сам себя в ходе своего собственного развития. Делёз и его периодический партнер, недавно скончавшийся Феликс Гваттари, так же, как и Делёз, специалист по психоанализу, рассчитывают на то, что шизофренические тенденции доведут систему до предела — и она разлетится вдребезги. По-видимому, Делёз разделяет или почти разделяет абсурдистские воззрения Ёсимото Такай, который считал, что потребление есть новая форма сопротивления.
Этот тип радикальной борьбы с тотальностью посредством призывов уничтожить саму себя напоминает беспомощный постмодернистский способ борьбы с репрезентацией: смыслы принципиально не доходят до сути, не описывают ничего, кроме себя. «Мышление без репрезентации», — так Чарльз Скотт называл подход Делёза. Шизополитика прославляет поверхности и разрывы; номадология — это антитеза истории.
В своей самой известной работе «Анти-Эдип», совместной с Гваттари, и в других, более поздних произведениях Делёз обращается к постмодернистской теме «смерти субъекта». Центром его социальной теории вместо людей становятся «желающие машины», образованные сочетанием человеческих и нечеловеческих частей, без различия между ними. Иллюзии индивидуального субъекта в обществе Делёз противопоставляет субъекта уже даже не антропоцентрического. Несмотря на его намерения, по-видимому радикальные, невозможно избавиться от чувства, что он принимает отчуждение, просто-таки греется в лучах отстранения и декаданса.
В начале 70-х Жан Бодрийяр разоблачил в книге «Зеркало производства» буржуазные основы марксизма, в основном преклонение перед производством и работой. Тем самым Бодрийяр внес свою лепту в упадок марксизма и Французской коммунистической партии, которая и так находилась в состоянии крайней растерянности — после того, как левые сыграли реакционную роль в подавлении майских восстаний 68-го года. С тех пор Бодрийяр стал олицетворением мрачных постмодернистских тенденций и превратился — особенно в Америке — в поп-кумира пресытившейся части общества, известного сильнейшим разочарованием в современном мире. В дополнение к печальному созвучию между почти галлюцинаторной болезненностью Бодрийяра и распадающейся культурой, уместно будет указать и на то, что в том вакууме, который образовался после ухода несколько более глубоких мыслителей (Барта и Фуко) и который Бодрийяр должен был (вместе с Лиотаром) заполнить, его роль была очень преувеличена.
Деконструктивистское описание Деррида невозможности найти что-либо вне репрезентации у Бодрийяра превращается в негативную метафизику, где капитализм трансформирует реальность в ни на чем не основанные симуляции. Бодрийяр считает, что культура капитала преодолела внутренние разногласия и противоречия и стала самодостаточной — это похоже на научно-фантастическую версию идеи Адорно о тотально упорядоченном обществе. Никакое сопротивление, никакое «возвращение назад» невозможно — отчасти потому, что альтернативой стала бы ностальгия по естественности, истокам, которую постмодернисты так решительно отвергают.
«Настоящее — это то, что можно равноценно воспроизвести». Природа забывается настолько, что все материальное обусловливается культурой, точнее, реальность формируется посредством масс-медийной симуляции. «Симулякр никогда не скрывает под собой истину; это истина скрывает то, что истины нет. Симулякр — это истина» — «Общество спектакля» Дебора, но на стадии падения личности, деятельности и истории в пропасть симуляций, так что спектакль теперь служит только самому себе.
Несомненно, в нашу «информационную эпоху» электронные СМИ оказывают на мир огромное влияние, но так же несомненно, что Бодрийяр чрезмерно обобщает свои мрачные наблюдения. Делая акцент на господстве образов, не следует умалять значение определяющих материальных факторов и движущих сил, а именно — экономической прибыли и экспансии. Утверждение: власть масс-медиа означает, что реальности больше нет, соотносится с утверждением, что власти «уже больше нигде нет», — и оба эти утверждения Бодрийяра ложны. Одурманивающая риторика не может скрыть то, что главная информация Информационного Века прямо связана с суровой реальностью бухгалтерского учета, эффективности, производительности и т.д. Симуляция не вытеснила производство — вряд ли кто-то отважится сказать, что наша планета гибнет исключительно под воздействием образов; хотя и надо признать, что все большее признание искусственного весьма способствует искоренению остатков естественного.
Бодрийяр утверждает, что различий между реальностью и репрезентацией больше нет; соответственно, мы очутились в некой «гиперреальности», которая всегда не более чем симулякр. Любопытно, что, по-видимому, Бодрияйр не только признает неизбежность такого развития, но и торжествует по этому поводу. Культурное — в широком смысле — перешло в качественно новую стадию, в которой исчезла сама область значений и смыслов. Мы живем в «эпоху событий без последствий», когда «настоящее» продолжает существовать исключительно в качестве формальной категории, и это, по представлению Бодрийяра, очень хорошо. «Почему мы должны считать, что люди хотят отречься от своей повседневной жизни ради поиска каких-то альтернатив? Наоборот, они хотят считать, что это их судьба… — узаконить монотонность монотонностью более высокого порядке». Если и говорить о каком-либо «сопротивлении», то здесь рекомендации Бодрийяра похожи на идеи Делёза — сделать общество еще более шизофреничным. То есть мы оперируем только тем, что система позволила: «Вы хотите, чтобы мы занимались потреблением? — Отлично, давайте потреблять еще больше, потреблять все, что только предложат, каким бы бессмысленным и абсурдным это ни было». Вот та радикальная стратегия, которую он окрестил «гиперконформизмом».
Часто можно только догадываться, к каким явлениям относятся гиперболы Бодрийяра, если они вообще к чему-то относятся. В одном отрывке автор, кажется, намекает на движение потребительского общества одновременно к единообразию и к рассеиванию... но какая разница, раз практически все утверждения все равно раздуты до космических пропорций и смехотворны? Бодрийяр, самый радикальный теоретик постмодерна и самый хорошо продаваемый сейчас культурный товар, говорит о «зловещей пустоте любого дискурса», не подозревая, по-видимому, что эта фраза лучше всего описывает его собственную бессодержательность.
Япония, может быть, и не годится еще на роль «гиперреальности», однако стоит упомянуть, что ее культура видится еще более отстраненной и постмодернистской, чем американская. По мнению Macao Миёси, «распад и крах современной субъектности, о которых писали Барт, Фуко и другие, уже давно стали вполне очевидными в Японии, где интеллектуалы постоянно жалуются на отсутствие индивидуальности». Поток чрезвычайно специализированной информации, производимый экспертами всех видов — сущность японского высокотехнологичного потребительского мировосприятия, где неопределенность смыслов и беспрерывная гонка за новизной идут рука об руку. Ёсимото Такай — это, наверное, самый плодовитый культурный критик в Японии; при этом почему-то не кажется странным, что он, помимо прочего, работает манекенщиком, восхваляя добродетели и достоинства посещения магазинов.