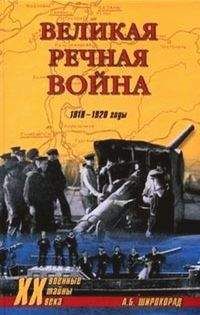Михаил Булавин - Боевой 19-й
Совещание окончилось поздно и не внесло ясности. Паршину казалось, что вопросы не разрешены, что командование не проявляет оперативности, которая настойчиво диктовалась нависающей угрозой налета. Может быть, это происходило потому, что не все верили в столь стремительное продвижение противника. Неприязнь и недоверие Паршина к Соколову не рассеялись, а, наоборот, возросли и укрепились. Кто знает, что на самом деле представляет собой комбриг Соколов? Не тайный ли он враг советской власти и, может быть, ждет только, чтобы в удобный момент нанести удар. Попробуй-ка, разберись. Все говорили хорошо, предложения высказывали обоснованные, планы с военной точки зрения тоже как будто правильные, а что получится на деле — неизвестно.
Когда Хрущев и Паршин возвращались в штаб, на улицах было почти безлюдно. Копыта всадников звонко цокали по каменной мостовой.
Изредка проносился конный или сурово окликал патруль: «Стой! Кто идет?» И снова замирал город, и только на окраинных улицах тоскливо завывали собаки. Воздух еще не очистился от дневной пыли. Пахло сеном и конским пометом.
Паршин озабоченно хмурился и за всю дорогу не проронил ни слова. Он никак не мог отделаться от мыслей о совещании; продолжал все еще спорить, ругаться, доказывать и чувствовал свою правоту.
«Ну, что они хотят сделать с этим гарнизоном? Ах, черт вас дери!.. Засады! Баррикады! Вот что нужно. Уличные бои! Неужели им непонятно? Город с мирным населением едва ли осмелятся обстреливать из орудий, а если так, тем хуже для них. Дальше они не пройдут. Заманить их в город, сделать из каждого дома крепость. Бить, уничтожать, пожертвовать частью гарнизона, но и им всем здесь устроить могилу. Пусть они попробуют развернуться здесь со .своей кавалерией. Но... Надо защищать так, как решено. Отступать с боями, прикрывая эвакуацию». И было ясно Паршину, что при первом нажиме казаки прорвут редкую цепь красноармейцев, займут город, поднимут панику и все, все рухнет. Тамбов не успеет эвакуироваться.
А, впрочем, черт знает, может быть, он сам ошибается, не в меру горячится. Однако он никак не может примириться с этим комбригом. Одна внешность него стоит. Он кичится своею военной ученостью, слишком упорен в своих доводах и хочет показать свое превосходство. Но почему он так упорен, этот бывший полковник? Не-ет, здесь что-то не так.
Новые друзья подъезжали к станции. По-кукушечьи посвистывал маневровый паровоз, звонко стучали буферные тарелки сцепляемых вагонов. Здесь сильнее чувствовался пульс жизни, и от этого становилось легче на душе.
Паршин спрыгнул с лошади, отдал Устину повод и почти бегом направился в штаб.
На первом пути, у самого перрона, стоял бронепоезд «Коммунист» с мирно посапывающим паровозом.
Устин вошел в здание вокзала. В третьем зале, в углу, огороженном длинными широкими скамьями, ютился агитпункт. Синели большие окна, и мутно светили маленькие шары электрических ламп. На полу сидели сонные пассажиры, устало прикорнув на своих узлах и мешках. Поездов не было, и казалось, что их не будет никогда и что.станция — это не станция, а какой-то заезжий дом, стоящий на тысячеверстном безлюдном тракте. Вокруг агитпункта, на скамьях и вдоль стен, оклеенных плакатами и лозунгами, и на широких, как полати, подоконниках расположились красноармейцы: опершись на винтовки, с наганами, заткнутыми за пояс, с гранатами и шашками.
За черным блестящим роялем сидела белокурая девушка. В ней Устин узнал Надю. Девушка играла неизвестную для него мелодию, но было в этой музыке что-то необычайное, чего нельзя высказать, но можно почувствовать сердцем. Красноармейцы хлопали в ладоши, кричали, просили играть еще и еще. Утомленная, она вставала и собиралась уйти, но оставалась, увидев плотную толпу людей.
Надя вновь опускала руки на клавиатуру.
К полуночи, незаметно протиснувшись сквозь толпу, пришел Паршин, заслонил собою девушку, сказал:
— До завтра, товарищи! Сегодня наш митинг-концерт окончен.
Устин вышел на улицу. В ушах звучали волнующие звуки. И он вспомнил о своей деревне, о матери и Наташе, о том, что пришлось перенести и пережить. Многое и хорошее и плохое уже прошло и осталось позади. Что же сулит ему завтрашний день?
В полутемном вокзале девушка своей игрой навеяла видения будущего, и каждый представлял и рисовал его себе таким, каким оно и должно быть, — счастливым и прекрасным. Она помогла слушателям заглянуть в тот еще не завоеванный, но чудесный мир, за который они борются.
Улицы безлюдны, пустынны. Надя жила на окраине города. Паршин находился под впечатлением военного совещания, а она думала о своем.
.. .В 1898 году в Сибирь за участие в забастовке был сослан рабочий Игнат Болдин. За ним на поселение уехала его молодая жена, и Сибирь стала их второй родиной. Своей дочери, родившейся в 1900 году, они дали имя Надежда. Шести лет она осталась круглой сиротой. Надя не помнит матери. Когда она начинала думать о матери, бна вспоминала бледное, задумчивое лицо и темное строгое платье. Остальное Надя дорисовывала сама. Отец представлялся ей высоким мужчиной в шубе. Почему непременно в шубе — Надя затруднялась себе объяснить. Наверное, потому, что старик охотник, который часто рассказывал девочке об отце, тоже ходил в шубе. После смерти матери какая-то неизвестная женщина* ласкала ее, плакала и говорила: «К кому прислонишь головку, сиротинушка печальная?»
Потом был вагон, в котором она ехала, кажется, целый год, и попутчик-сосед спрашивал: «Вы в Россию?» Он кормил ее сладкими пряниками и однажды, вздохнув, сказал: «У кого есть матка, у того головка гладка». Она часто потом проводила ладонью по голове и очень радовалась: голова была гладкой, а волосы мягкие, как шелк. В Тамбове она жила у тетки. После смерти ее — до пятнадцати лет в приюте. Вот и все. Да, был еще какой-то сундук, окованный железом, который тетка тащила на спине, и голубой платок. Сундук разломали и сожгли, а железные полосы долго валялись в чулане и напоминали заржавевшие шашки. Видя сейчас шашки, Надя вспоминает об этих полосах. Больше года она работала в губчека. «К кому прислонишь головку, сиротинушка печальная», — вспомнила она и усмехнулась...
— Петя, — сказала она, — ты что молчишь?
— Я боюсь помешать тебе. Ты думаешь о чем-то.
— О чем же я могу думать?
— Не знаю о чем, но, должно быть, о хорошем.
— Тебе скучно?
— Нет. Мне хорошо. Ты сегодня играла лучше, чем когда-либо, с душой. Мои ребята очень довольны. За это тебе большое спасибо. Такое удовольствие мы редко получаем. И скажи, ведь ни они, да и я сам в музыке, по правде сказать, ни черта не понимаем, но мне бывает хорошо от нее. Ну, как тебе, сказать!.. Ну, здорово, к,огда душа вскипает и перед тобой как бы вся жизнь на ладони, а жизнь была у нас — ты сама знаешь — дрянной. И оттого-то еще пуще зло берет, что не было правильных путей, да и самой-то жизни настоящей, полной не было. Вот сегодня я встретил товарища с тех мест, откуда я родом.
— Не тот ли солдат, что был с тобой в городе днем?
— Этот самый. Боевой и бывалый парень. Он рассказал мне, что несколько дней назад был в моем родном селе, где живет отец, с которым я не виделся лет семь.
— А ты писал ему?
— Писал, Надя, — вздохнул Паршин, — писал много раз, но ответа не получал. Либо мои, либо отцовские письма не доходили. Ведь я то в одной части, то в другой, а тут то и дело ломается фронт и разделяет меня с ним. Отправишь письмо, а оно поплавает, поплавает, да и утонет. Хороший у мёня старик, а вот пожить с ним и не пришлось. Наезжал он редко. Бывало скажу ему, чтобы он оставался у меня совсем, а он покачает головой, махнет рукой и долго молчит. А уж потом горько усмехнется и скажет: «Тебе, Петя, легко было оторваться от земли, ты молод, а я ведь с тоски здесь пропаду. Ты вот уйдешь на работу, а я жду тебя, жду и не знаю, куда себя деть. Нет. Ни домоседом, ни нахлебником твоим я быть не могу». Да и в самом деле. Ведь он хлебороб. А война совсем разлучила нас. Сначала переписывались, я ему деньги посылал, а вот уже давно — от него ни слова. А как бы мне хотелось его увидеть, порадовать, обнять и вволю наговориться.
Где-то за домами один за другим хлопнули сухие ii резкие выстрелы. Паршин остановился.
— Это из нагана, — спокойно определила Надя и, помолчав несколько секунд, попросила: