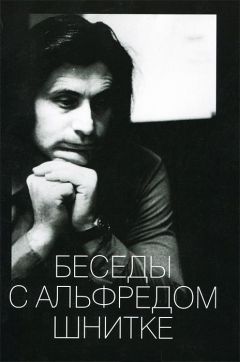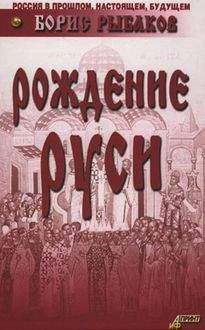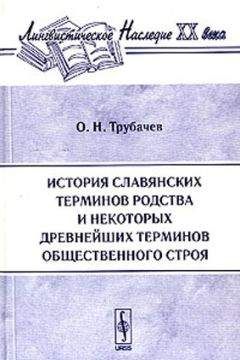Олег Трубачев - К истокам Руси. Народ и язык
Памятуя о подзаголовке книги Мошинского («… в свете славянского языкознания»), мы с сожалением констатируем, что большинство этимологий, предложенных автором, едва ли можно назвать удачными, будь то *trno-golvъ («Христос в терновом венце»?) – о языческом боге победы у полабян на основе Tjarnoglof древнеисландской традиции, с. 74 – 75) – или дешифровка *potoga < Podaga, praepotentia которой упоминается в источниках (с. 79), но Podaga (вариант: pogaga) заслуживало бы более естественного объяснения, уже предлагавшегося другими исследователями ранее: что-то вроде «пожар», чем выражалась мощь бога. К той же семантической сфере могло бы принадлежать божество северо-западных славян Pripegala, если из *Pripěkala, отглагольное имя от *pripěkati «припекать». Мошинский смотрит на него иначе, связывая с польск. opieka «забота», «попечение» (с. 81). Но столь резкие семантические различия одного и того же глагольного корня *pekťi – «жечь», «печь», «жарить» и «заботиться» – зависят главным образом от префикса.
«До сих пор языкознание едва ли привлекалось в исследованиях по дохристианской славянской религии», – таков приговор, выносимый автором (с. 88), и мы должны на этот раз признать его правоту.
Мошинский придерживается мнения, что слова *duxъ и *duša не принадлежали к праславянской религиозной лексике (с. 97). Выше мы попытались затронуть проблему похождений души после смерти, насколько они (похождения) могли обозначаться с помощью табуистического древнего словарного состава, служить предметом представлений, а также по возможности прослеживаться и вскрываться лингвистическим путем. То, что до смерти носило название *duša, продолжает, по праславянским представлениям, жить и после смерти, но только – под новыми именами *navь, *mana, *manъ и, возможно, также другими, ср. еще и.-е. *ăn-, откуда не только нем. Ahn «предок», но и слав. *vъnukъ «внук», этимологически «того же рода, что и предок, дед, принадлежащий предку, деду». Существенная деталь: в книге Мошинского я не встретил слóва (и понятия) табу ни разу, отчего явно пострадало лингвистическое исследование материала. Равным образом в ряде случаев, кажется, имело место пренебрежение лингвистической типологией. Вот только один пример, который, однако, с тех пор как я его обнаружил, является для меня чудом лингвистической типологии и славянского культурного своеобразия. Внешне тот же самый лексический материал служит предметом обсуждения и у Мошинского в части III, главе 2 «Дохристианская религия славян в свете праславянского словарного состава», параграф с) «Проблема ответственности человека после смерти» (с. 97 и след.). Там написано совершенно правильно, что «проблема грядущей ответственности была чужда праславянам. Праславянский словарный состав не содержит слова, обозначающего ад, преисподнюю» (с. 97). Таким образом, не было лексико-понятийной оппозиции между раем и адом, мимо чего автор проходит молча. Но поскольку упраздняется названная оппозиция, а вместо двух четко очерченных понятий остается одно расплывчатое «потусторонний мир», «тот свет», отпадает надобность и в этом разделении на хорошие и плохие души. Этого не позволяет делать элементарный структурализм, отчего в праславянский потусторонний мир (*rajь) переселяются все умершие. Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления. Но самыми важными, на мой взгляд, остаются дальнейшие типологические различия. На одной стороне мы констатируем эту славянскую ситуацию с наличием собственного названия рая *rajь, отсутствием заимствования из греч. παράδεισος и с заимствованными названиями ада (адъ, пъкълъ). Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем на другой стороне – у большинства неславянских народов Европы и в их языках. Лат. infernum и его продолжения во всех романских языках, нем. Hölle, англ. hell и т.д. «ад» показывают нам, что в западном языковом и культурном ареале туземными и дохристианскими были как раз названия ада, преисподней, в то время как понятие и название «рай» там оказалось импортированным извне вместе с христианизацией. Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Востоком и Западом до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания.
Среди прочих лингвистических и этимологических неудач книги следует, возможно, выделить анализ лексического семейства трѣба – «жертва». Автор явно пошел по ложному следу, принимая здесь за исходные значения «чистить», «корчевать (лес)» (с. 109). Конечно, здесь представлен корень *ter-, расширенный элементом -b– и обладающий основным значением «тереть», «перетирать», «истреблять с помощью чего-то острого», но сакральное значение «жертва» дало не оно. Непосредственно от глагольного значения «перетирать», «истреблять» отпочковалось значение «острая необходимость», «дело» (ср. лит. reïkia «надо», «нужно», reïkalas «дело», этимологически родственные с значением глагола riêkti «резать». Праслав. *terba, цслав. трѣба , victima < necessitas, сюда же польск. trzeba «нужно») является хорошей аналогией этому. Когда Мошинский (там же) толкует слово тргьбище как «очищенное от деревьев, раскорчеванное место», получается еще одна досадная ошибка. Со стороны языка дело ведь абсолютно ясно и однозначно: тргьбище – это (также в этимологическом смысле) «место требы, жертвоприношения», locus victimae, в соответствии со словообразовательной моделью на -išče и семантической иерархией. Строго говоря, и ст.-слав. капище – не обязательно «здание» (к трудному вопросу о храмах), как у Мошинского (с. 112), а точнее – «место того, что называется капь («идол»)».
Что касается обсуждения книги, мы уже близки к цели. Я, конечно, разделяю мнение, что эта тема сложна, трудна и с лингвистической точки зрения обработана еще в очень малой степени. Вызывает сожаление, что наш автор трактовал проблему слишком фрагментарно. И его заявленная лингвистическая позиция осталась, скорее, невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи. Но одной письменной традиции для реконструкции языка и культуры недостаточно. Напрасно также объектом критики и сомнений Мошинского сделалось использование этнографического материала. Но главное, в сущности, то, что в его изображении своеобразие праславянской религии оказалось едва ли затронуто.
Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой («поганьскъ»), а дохристианской (с. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, т.е. отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка. Но это не так. Следует говорить о самостоятельном весьма протяженном периоде, значение которого вряд ли можно было бы переоценить, тем более что его воздействие сохраняло силу и для последующего христианства (ср. то, что сказано выше о понятийной паре рай – ад в двух культурных регионах Европы). Тем самым ставится вопрос о временнóй глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I тысячелетия до н. э. или, выражаясь словами самого Мошинского (с. 125): «Очень древние иранские влияния были не столь существенны (…) Скандинавские влияния установить не удастся. Протоболгарское влияние было лишь поверхностным. Влиянию кельтской религии подверглись, прежде всего, западные лехиты». И это все? Как я себе это сейчас представляю, ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии: уже наличествует понятие бога (богов), не без иранского влияния. Вне поля зрения остался предшествующий период культурной жизни с более примитивным миром духов и характерными нравами и обычаями, но совершенно отличный также по своим языковым и этническим связям, прежде всего славяно-италийским (латинским). Обойти их здесь молчанием было бы едва ли правильно, но тем самым нам придется говорить о другой книге – о моем «Этногенезе и культуре древнейших славян (лингвистические исследования)» – вышедшей в 1991 г. После прочтения книги Мошинского я нахожу это даже настоятельно необходимым, тем более что прошедшие после этого годы помогли здесь кое-что добавить или объяснить.
Для краткости я буду придерживаться своего тогдашнего изложения, будучи при этом, однако, вынужден произвести некоторый отбор проблем в интересах, так сказать, продолжения диалога с Мошинским. Итак, по порядку: кельтов я вижу значительно южнее – южнее, чем германцы последних столетий до н. э., чей отпечаток носит имя вольков/волохов (Volcae > *Walhōz > праслав. *volsi / *νοlxy) в их продвижении к славянам в среднее Подунавье. Значительно дальше на восток и не раньше V в. до н. э. имеют место не только иранско-славянские, но и индоарийско-славянские контакты. Это путь к этимологии *Svarogъ из др.-инд. svarga– «небо». Иранская этимология терпит естественное фиаско на факте сохранения этимологического s– в начале слова, невозможность исконно праславянской этимологии очевидна из наличия -r– внутри слова (если от названия Солнца, то почему тогда не -l-?), то, что пишет об этом слове Мошинский (с. 53 – 54. Примеч. 226), неубедительно. Наш вышеупомянутый terminus post quem (середина I тысячелетия до н. э.) для контактов с индоарийским ограничивает более глубокую датировку также и для имени бога солнца Svarogъ. После критики неестественно высокоразвитой трехклассовой культуры (пра)индоевропейских племен по Дюмезилю, Гамкрелидзе и Иванову я обращаюсь к ключевому (в моем представлении) слову славянской культуры *svojь «свой» в контексте родовой идеологии и терминологии, ср. в первую очередь словосочетание *svojь rodъ «свой род». С идеологией рода естественно сочетается земледельческая идеология со своими суевериями. Так следует понимать, как мне кажется, рус. колдун, собственно праслав. *kъltunъ «тот, кто спутывает (хлебные колосья – со злым умыслом)». Памятуя о родовых коннотациях слова *svojb (и. е. *sue-), я рассматриваю праслав. *sъ-mьrtь «смерть» как эквивалент рус. своя смерть – о естественной смерти – со специфической понятийной нейтрализацией и.-е. *su– I suus и *su– II «хороший» (в нравственном смысле) – и то, и другое из первоначального *su– «рождение», «род». Тот свет обозначался просто как «связанное с (или находящееся за) водой» (своего рода across the river and into the trees, «на той стороне реки, в тени деревьев», как у Хемингуэя), ибо примерно таков этимологический смысл праслав. *rajb (*röi-: *rei-), а отсутствие *rajь в гидронимии объясняется как сакральный запрет.