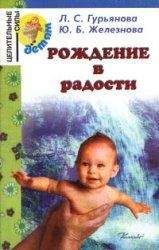Константин Федин - Первые радости (Трилогия - 1)
- Пазволь! Па-азволь!
Наконец один из носаков больно двинул его тюком в плечо и крикнул:
- От че-орт! Барин, зашибу!
Тогда он медленно отошел от биплана и крутой лесенкой с начищенными медными пластинами стал подниматься на пассажирскую палубу.
Пастухов сидел лицом к реке, за маленьким столом, пил жигулевское пиво и закусывал раками.
- Я думал, не придешь, - сказал он и позвонил официанту.
- Есть у тебя листок почтовой бумаги? - нетерпеливо попросил Цветухин. - Или вырви из записной книжки.
Пастухов долго вытирал салфеткой пальцы и шарил по карманам, потом бросил на стол заношенное письмо. Егор Павлович принялся складывать из бумаги какую-то фигурку, тщательно загибая углы, вымеривая и отрывая стороны. Пастухов следил за его работой и обсасывал раковые шейки. Пришел официант.
- Еще дюжину раков, - сказал Пастухов, - и хорошую стерлядку.
- Паровую? - нагнулся официант.
- Паровую.
- Кольчиком?
- Кольчиком.
Цветухин сложил фигурку, поднялся и сказал Пастухову:
- Поди сюда, смотри.
Они стали у парапета палубы, и Цветухин бросил фигурку. Она полетела дальше и дальше от парохода, медленным, равномерным движением и плавно опустилась на воду, растопырив свои крылышки. Пастухов некоторое время следил, как ее подхватило течение, затем посмотрел безучастно на приятеля, вернулся к столу, заткнул за жилет салфетку, сказал:
- Интересная птичка, - вырвал у рака клешню и легко разгрыз ее.
- Это не вызывает у тебя никаких мыслей? - спросил Цветухин.
- Никаких.
- Печально.
- Я тупой.
- Ты лентяй. А ведь тут не требуется изнуряющей работы ума. Птичка пролетела по гипотенузе треугольника, которая в три раза длиннее его высоты. Значит, если я спрыгну на таких крыльях с высоты в версту, я пролечу три версты.
- Если ты спрыгнешь с такой высоты, ты хрустнешь, как рак на моих зубах.
- И заметь, - серьезно продолжал Цветухин, - птичка летит без двигателя. А если ее снабдить двигателем с легким сильным аккумулятором, ее полет можно во много раз увеличить.
- Ты что, видел внизу биплан?
- Да. Но мне, Александр, кажется, что наши авиаторы стоят на ложном пути. Считают, что птице нужно оттолкнуться от земли, чтобы полететь. Это неверно. Если держать птицу за ноги, она все равно полетит. Ей не нужно ни толчка, ни разбега. Она может порвать нитку, которой ее привяжут к земле, может поднять в воздух тяжесть одной силой своих крыльев. Надо придумать две вещи: как подняться в воздух без разбега и как сделать легчайший двигатель.
- Охладись, мыслитель, - посоветовал Пастухов, наливая пива. - И хочешь, я скажу о твоих выдумках? Ты вчера великолепно играл. Это твое дело. Занимайся им. Леонардо изобретал крылья. А мы знаем его только как художника.
- Наша вина.
- Нет. Почитай его "Кодексы". Когда он пишет о своем "Потопе", его язык содрогает человека. Он говорит: пусть будет виден темный воздух. Это бог дней творения: да будет свет. А чертежи его машин - почтенная реликвия, не больше.
- Ты хотел бы летать? - перебил Цветухин.
- Я все время летаю.
- Но ты даже не видел аэроплана в полете.
- Видел. Над гипподромом поднялся сверчок, сделал круг над крышами и сел на телеграфные провода. Авиатор свихнул челюсть.
- Птенец сначала выпадает из гнезда, Александр!
- Понимаю. Птенец станет птицей. Но я всегда буду летать лучше. Я сижу, ем рака и вижу, как твоя птичка размокла в воде, как она повисла склизлой ошметкой на весле, которое вскинул лодочник. Разиня рот, лодочник глядит на берег. Я вижу берег. Он пузырится горбами товаров, в траншеях между ними ползают людишки. Вон двое остановились возле кучи воблы, откинули угол парусины, выбрали рыбину покрупнее, колотят ее об ящик, оторвали голову, чистят. Слышишь, как потрескивает шкурка, которую сдирают со спины? Видишь, как выпрыскивает из шкурки серебряная чешуя? А у меня перед носом все тот же рак.
- Ты не боишься сесть на телеграфные провода? - спросил Цветухин.
- Очень может быть - даже мордой в лужу. Но такие полеты - моя профессия, другой я не хочу.
Цветухин замолчал. Ему по-прежнему мерещилась бумажная моделька, он следил за ее полетом мыслью, глаза же словно повторяли путь, на который толкнул его Пастухов: сквозь желтую мглу ему виднелся берег в холмах и буераках товаров, затянутых парусиной.
В это время начиналась смена крючников - одна артель уходила с погрузки, другая готовилась ее заступить и подкреплялась перед работой приварком. На земле, между сваями, подпиравшими огромный пакгауз, откуда недавно ушла весенняя вода, сидели на коленях в кружок грузчики, черпая из котла похлебку. Их батя, Тихон Парабукин, был без рубахи, его большое тело с крестом золотистых волос между сосков светилось в полумраке. Он в очередь с товарищами запускал ложку в котел и аккуратно нес ее ко рту, подставляя ломоть хлеба, чтобы не капать.
Ближе к свету, прислонившись к бревну и раскинув на земле босые ноги, Аночка пришивала к отцовской рубахе пуговицы. Ольга Ивановна прислала дочь на берег, с пирогом, с иголкой и навощенными нитками, потому что сама она сердилась на мужа: Тихон пил горькую подряд неделю, шатался по берегу, а если забредал в ночлежку, то буянил, бил себя под сердце, кричал - не буди во мне зверя! - и хватался за бутылку, торчавшую из кармана. Она один раз отыскала его в трактире, другой - нашла под заброшенной днищем вверх косоушкой. Он весь оборвался, пропил заплечье, а когда опять стал на работу, засовестился явиться к Ольге Ивановне на глаза и велел ночлежникам передать Аночке, что ему нужно починиться. Аночка накормила отца любимым пирогом с ливерочком и села за шитье. Пуговицы пришивала она на совесть, по-мужски, как учил отец, - не затягивая нитку, а делая под пуговицей обмотку в виде ножки; заплаты клала, припуская излишек на дырку. Лицо ее было при этом деловым, как у всех женщин, которые обшивали на берегу крючников.
Парабукин заглянул в котел, стукнул ложкой об край, приказал:
- Таскай со всем!
Едоки начали вылавливать в похлебке крошеное мясо, следя, чтобы никто не брал лишнего. Скоро они добрались до дна, почти высушили его ложками и стали, крестясь, подниматься. Надевая на ходу заплечья, помахивая крючьями, они выходили из-под пакгауза на свет своей развалкой и осанистой поступью. Парабукин надел починенную рубаху, легонько, словно неуверенно, погладил ладонью Аночку по волосам. Она пошла вместе с ним, довольная, что угодила ему и что может побыть на берегу и отдохнуть от нянченья наскучившего Павлика.
Артель должна была погрузить на пароход стопудовый становой якорь. Парабукин обошел его, в то время как крючники молча стояли вокруг. Все они понимали, как взяться за трудное дело, но слово было за батей.
- Поддевай, - спокойно проговорил Тихон.
Пятеро приподняли с земли одну лапу якоря, подсунули под нее конец каната и, перейдя к другой лапе, сделали то же с ней. Потом завязали конец узлом на пятке якоря, и вся артель расставилась в линию, по обе стороны каната.
- Берись, - сказал Парабукин.
Они подняли канат.
- А вот нейдет, а вот нейдет! - запел Парабукин осипшим своим голосом, и низкие голоса повторили за ним те же слова ленивым, непевучим говорком, как будто обращаясь к якорю, который мертво лежал, вдавившись в землю. Тотчас низким голосам ответили высокие, звук их объединил артель, она дружно наклонилась, натянув канат и найдя дюжий упор одинаково обутым в лапти ногам.
- А вот пойдет, а вот пойдет! - пропели высокие голоса.
- А вот нейдет, а вот нейдет! - возразили низкие.
- А вот пошла, пошла, пошла! - вдруг звонко спели высокие, и якорь тяжело сдвинулся с места, неохотно вылезая из вдавины и по пути отжимая пяткой сокрытую в земле песчано-желтую влагу. Тогда все голоса уверенно и складно слились, и чудесной волной побежала над берегом двухголосая, радующая и утешающая душу волгаря песня, нехитрые слова которой препираются и подзадоривают, а напев единит и ведет в ногу людей из года в год, из века в век. Якорь полз волоком, тупо приостанавливаясь на всякой неровности и снова нехотя-покорно трогаясь, будто даже его чугунное тело оживлялось всемогуществом песни.
Пастухов и Цветухин, кончив завтрак, долго неподвижно слушали пение, которое наплывало с берега на воду то с одной, то с другой стороны парохода, то набирая силу и звеня колоколом, то мягко утопая далеко в поречной мгле.
- Пойдем посмотрим, - вдруг загоревшись, сказал Пастухов.
Они прошли через салон и остановились на палубе с другого борта, как раз над сходнями, перекинутыми с пристани на пароход. Облокотившись на парапет, они увидели, как головные крючники ступили на сходни и вся артель, держась за канат, точно ветви елки за ствол, начала врастать в пароход, исчезая под палубой.
- Смотри, - сказал Цветухин, - узнаешь?
Парабукин, нагнувшись, двигался последним. Он только для вида держал канат одной рукой и внимательно присматривал за ходом якоря, рога которого размахом были во всю ширину сходен. Кудри его космато закрывали лицо и шею, вздрагивая от грузных рывков тела.