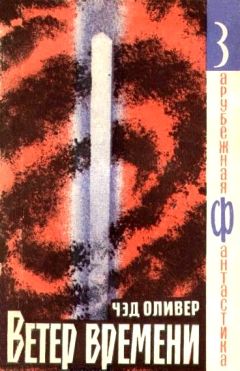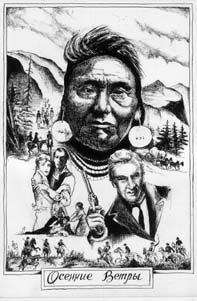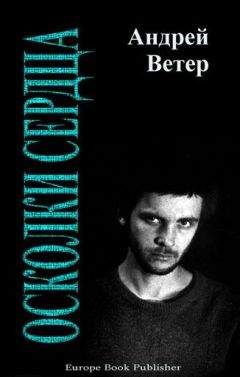Дмитрий Балашов - Ветер времени
– «Ежели ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом своим!» – Отчетисто произнося по-гречески слова Спасителя, Филофей вдруг померк, насупился, изронил глухо: – Братней любви очень недостает ромеям в днешней скорбной судьбе!
Алексий, заинтересованный последним тезисом только что прослушанной схолии, вопросил: верно ли он понял, что чувственное проникновение выше холодного умственного и вернее по постижению божества?
Как только речь коснулась искусства, Филофей Коккин оживился. Отставив чашу, убедительно и ярко стал живописать значение искусства как понятийного уровня для «малых сих», тут же процитировал Григория Нисского: «Мне кажется, что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа».
Алексий посетовал, что истинно великих произведений художества не достать в Константинополе. Коккин усмехнул:
– Не там ищешь, брат! Поезди или лучше пошли иного в Галлиполи, самому тебе не стоит подвергать себя военной опасности. (Да, да! Увы, все правда, я сам не вдруг поверил этой беде!) Туда притекают греческие святыни из Вифинии. Турки продают их христианам, и там ты возможешь купить действительно ценное!
Станята как раз внес блюдо с рыбою, и Алексий, переглянувши с ним, понял без слова готовно вспыхнувший взор новгородца. Поручение съездить в Галлиполи, очень небезопасное, было как раз по Станяте.
Уладив эту стороннюю нужду и легко коснувшись последних неудач императора (Коккин тоже считал, что Кантакузин стал нынче излишне осмотрителен и напрасно осторожничает с османами, захватившими Чимпе), Филофей скользом притронулся и к своим ранам:
– Василевса ныне хают многие! Меня, увы, тоже бранят за Гераклею!
Алексий до сей поры не намеревал касаться гибельного взятия города, но тут уж не выдержал, вопросил:
– Почто ругают тебя, брате, и не хулят сбежавшего епарха и той знатной молодежи, которая, затеяв ссору, после бежала впереди всех?
Коккин махнул рукою:
– Каюсь в том, что небрегал делами города! Но как трудно порою пастырю! Ежедневная пря с властителями и епархом, угрозы от должностных лиц, находящих удовольствие в неслыханных притеснениях и ограблениях бедных и неотступно преследующих всякого, кто дерзнет защитить разоряемых от неправды сильных мира сего! Брат мой! Льщу себя надеждою, что у вас, в варварской стране, не так нестерпимо угнетен труженик! Я давно искал тишины, – продолжал Коккин, утупив взор в столешню, – желал предать себя целиком книжной мудрости и исихии в уединенном монастыре… – Он поднял беззащитный взор на Алексия. – Даже ждал знака! Но медлил, поскольку въезд в столицу закрыли ради свирепствовавшей чумы. И вот в пасхальную ночь было видение… Вещий сон… Я стоял, вернее, сидел на коне, в городе, захваченном врагами. Ко мне подошла знатная женщина со служанкой, воскликнув: «Уйди!» Ударила плетью моего коня. «Быстро уходи, уходи отсюда!» – «Куда, – вопросил я, – прикажешь мне идти, госпожа?» – «В домик свой иди!» И все растаяло. Проснувшись и помыслив, я понял, что это Богоматерь так человеколюбиво позаботилась обо мне, и в конце Святой недели, покончив с сомнениями, ушел в Константинополь… Далее, ты знаешь, был собор противу варлаамитов, на коем я принял участие в споре православных с худославными… После чего лечил свою плоть и хлопотал перед патриархом, дабы мне вовсе уйти с митрополии на Афон. Тогда вот и явились генуэзцы!
Алексий знал иную версию, Никифора Григоры, но ничего не сказал Филофею. Осуждать или оправдывать кого-либо здесь, на греческой земле, пред лицом творимого всеми и каждым, было нелепо и невместно.
– Но я возродил город! – воскликнул, подымая голову, Филофей. – Собирал деньги, выкупал страдальцев, вся родня коих погибла во время резни! Созывал разбежавшихся граждан из других градов и весей!
– Но почему не дрались?! – не выдержал Алексий в свой черед. – Почему бежали, почему отступили со стен, почто оставили открытыми градские ворота? Почто сами, первыми напав на фрягов, не изготовились тотчас к защите города?! Откуда в греках, при столь глубоком разумении высочайших истин, такая неспособность действования?
Оба иерарха уставились в очи друг другу. В темно-прозрачном взоре Алексия было недоумение и гнев, в глазах Филофея – отрешенная грусть тягостного воспоминания.
– Нам остается верить! – погодя негромко отмолвил он. – Время дел миновало для нас! Вы молоды. У вас есть энергия! Вам токмо не хватает божественных знаний…
– Отче! – Алексий, сам не понимая, как и почему, начал сбивчиво, волнуясь и почасту не находя нужных греческих слов, рассказывать о Сергии, о его малой обители, наваждениях, одиноком подвиге, днешней славе инока и о тех слухах, что уже не раз доходили до Алексия, слухах о чудесах, а быть может, даже и не чудесах? А попросту о мужестве подвижника? И о знаменьях, сопровождавших рождение его…
Филофей слушал, не прерывая. Наконец (понял сам, без подсказки Алексия) произнес:
– Ему надобно возродить общежительный устав!
– Да, – возразил Алексий, – но я не хочу… не могу… Мыслю, совет о том должен изойти свыше, от самого патриарха!
Они опять поглядели в глаза друг другу и перемолчали, понявши, что едва не переступили незримую грань, далее которой любые слова пока были запретны.
– Но почему, брат мой, почему настаиваешь ты на переносе кафедры из Киева во Владимир?! – воскликнул Филофей почти с мукою, обращая к Алексию страдальческий взор. – Ведь митрополиты и так пребывают у вас, в Залесье! Святейший патриарх еще и потому противится твоему поставлению! Твой противник, Роман, оказался сговорчивей!
– Романа выдвигает Ольгерд! – жестко ответил Алексий, неумолимо глядя в эти страдающие (и такие еврейские в этот миг!) глаза гераклейского страстотерпца.
– Еще когда Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир чудотворную икону «Умиления», ныне зовомую «Владимирской Богоматерью», уже тогда Киев уступил первенство и власть залесской земле! Но теперь, когда в древней столице Руси вот-вот начнут править службы латинские попы… Да, да, отче! Да! Я ведаю, что говорю однесь! Ныне оставлять кафедру митрополитов русских там – это значит отдать, подарить русскую церковь Риму! Как не ведаешь сего ты?! Ты, друг и сторонник Паламы, пламенный защитник правой веры, коего дивную речь слышал я всего час тому назад!
Филофей простер обе руки вперед, молчаливо останавливая разошедшегося Алексия, и выговорил наконец главное, ради чего и творился весь днешний разговор:
– Русский брат мой, поддержи василевса, и он поддержит тебя!
«Серебром!» – добавил мысленно Алексий, проясняя слова Филофея, но вслух не произнес ничего, только утверждающе склонил голову.
На прощание Филофей с некоторым смущением развернул свиток и протянул Алексию. Это была молитва на пленение и освобождение гераклеотов, сочиненная Коккином в ту ночь, когда он узнал о бегстве плененных гераклеотов из Галаты в Константинополь. Алексий благодарно принял свиток, твердо пообещав поэту, не сдержавшему при этих словах невольной радости:
– У нас ее переведут на русскую молвь!
– И… Вот еще! – прибавил Филофей, вставая.
– Что это? – вопросил Алексий, вглядываясь в греческие строки и бегло (он все еще не научился мыслить на чужом языке) переводя на русскую речь:
Соделались мы срамом для соседей наших, Издеваются над нами окружающие нас, Городами нашими чужестранцы владеют Прямо на наших глазах…
Рассеяны мы по всем языкам и землям, Отвергнуты, как дети, позорящие родителей, Род лукавый и огорчающий, Железо пронзило душу нашу, Причислены мы к жертвенным овцам, И нет избавляющего нас!
Господи, возврати наших пленных!
Спаси сыновей погибших…
Прореки им в сердце хранить мир взаимный Ради них самих, ради церкви твоей, ради всех твоих людей.
– Что это? – повторил Алексий. – Как хорошо!
– Это о нас, – ответил Филофей тихо. – О нашей беде и тоске!
– И это мы сохраним в сердце своем, брат мой! – ответил Алексий и вновь светло взглянул в очи Филофею.
Когда, проводив Коккина, Алексий воротился к себе, обмысливая беседу, он по сердечной радости почуял, что в день сей обрел друга и ходатая пред лицом сильных мира сего. И теперь одно долило неизвестностью: как поведет себя Кантакузин?
Когда его через малое число дней позвали к царю, Алексий понял, что вот оно: подошло, прихлынуло наконец! Подступило! То, что сдвинет с мели застрявшее судно его посольства (сдернет или уж разобьет дозела). И что Кантакузин надумал наконец нечто, для чего надобен он, Алексий (или Алексиево серебро – не важно! Русское серебро может дать только он!) И уже провидя, почти провидя, что, почему и зачем занадобилось от него царю (досыти наслушал уклонливых греческих речей за эти глухие месяцы!), Алексий, хоть и привык сдерживать себя, почуял вновь юношескую щекотную сухость в ладонях, и настойчивый бой сердца, и твердоту во всем теле, как бы собираемом к битве духовным поводырем своим, высшим разумом, который заключен не токмо в голове, но и в сердце, и – прав Григорий Палама – в сердце прежде всего!