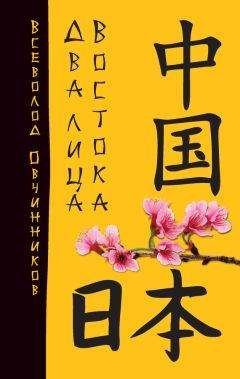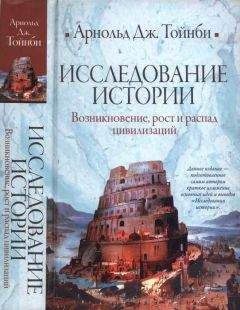Арнольд Джозеф Тойнби - Исследование истории. Том II: Цивилизации во времени и пространстве
Если чувство самотека — чувство пассивное, то чувство греха, представляющее собой альтернативную реакцию на сходное осознание своего морального поражения, является его активным двойником и антитезой. По своей сути и по своему духу чувство греха и чувство самотека резко контрастируют друг с другом. Если чувство самотека производит усыпляющее действие, коварно внушая душе, чтобы она согласилась со злом, которое, по ее мнению, коренится во внешних обстоятельствах, недоступное ее контролю, то чувство греха производит действие стимулирующее, поскольку говорит грешнику о том, что зло находится все-таки не вовне, а внутри него и, следовательно, подвластно его воле (если только он пожелает осуществлять намерения Бога и стать доступным для Божьей благодати). В этом заключается все различие между той трясиной отчаяния, в которой время от времени утопает христианин, и тем изначальным импульсом, который начал подталкивать его вперед, к «вон тем воротам».
Тем не менее, существует своего рода «ничейная земля», на которой два настроения частично пересекаются, что косвенным образом предполагается в индской концепции «кармы». Ибо хотя, с одной стороны, «карма», подобно «первородному греху», понимается как духовное наследие, которое взвалено на душу без права отказа от него, накопленное бремя «кармы» в любой данный момент может быть усилено или ослаблено благодаря сознательному и добровольному действию индивида, в котором в любой данный момент эта душа воплощена. Тот же самый путь от неодолимой судьбы к преодолимому греху можно проделать и следуя христианскому образу жизни. Ибо христианской душе предоставлена возможность очищения от порчи первородного греха, являющегося наследством Адама, благодаря поиску и нахождению Божьей благодати, которая стяжается единственно как Божественный ответ на человеческое усилие.
Пробуждение чувства греха можно обнаружить в развитии египетской концепции жизни после смерти, возникшей в ходе египетского «смутного времени». Однако классическим случаем является духовный опыт пророков Израиля и Иудеи в сирийское «смутное время». Когда эти пророки открывали свои истины и сообщали о полученном откровении людям, общество, из лона которого они происходили и к членам которого они обращались, пребывало в беспомощном ничтожестве в лапах ассирийского тигра. Для людей, социальная система которых находилась в таком ужасном состоянии, было героическим духовным подвигом отрицать очевидное объяснение их ничтожного положения действием непреодолимой внешней материальной силы и пророчить, что, несмотря на внешнюю видимость, лишь их собственный грех явился причиной их бедствий и что, следовательно, от них самих зависит их подлинное освобождение.
Эта спасительная истина, открытая сирийским обществом в момент его сурового испытания надломом и распадом, была унаследована у пророков Израиля и распространена в христианском обличий сирийским крылом внутреннего пролетариата эллинского мира. Не научившись у чужеземцев этому принципу, который уже постигли сирийские души с совершенно неэллинским мировоззрением, эллинское общество никогда не смогло бы извлечь для себя урок, настолько расходившийся с его собственным это-сом. В то же самое время эллины могли бы столкнуться с еще большими трудностями, чем те, с которыми они столкнулись, приняв это сирийское открытие близко к сердцу, если бы они сами, своим ходом, не шли в том же направлении.
Это свое собственное пробуждение чувства греха можно проследить в духовной истории эллинизма за много веков до того, как эллинская струйка смешалась с сирийским потоком в одной реке христианства.
Если наша интерпретация происхождения, природы и целей орфизма верна, то очевидно, что даже до того, как эллинская цивилизация вошла в фазу надлома, по крайней мере, несколько эллинских душ столь болезненно осознали духовную пустоту в их собственном культурном наследии, что прибегли к tour de force (насилию), искусственно изобретя «высшую религию», которую не удалось создать для них материнской минойской цивилизации. Во всяком случае, не вызывает никакого сомнения, что в самом первом поколении после надлома 431 г. до н. э. аппарат орфизма был введен в употребление (и в употребление неверное) в целях удовлетворения потребности тех душ, которые уже пришли к осознанию греха и искали, хотя и вслепую, пути освобождения от него. Доказательство этого мы находим в одном платоновском пассаже, который мог бы равным образом выйти и из-под пера Лютера.
«Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках проступок, причем это будет сделано приятным образом, посреди празднеств… И по этим книгам [Мусея и Орфея] они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще жив, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла: оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинства; это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают беды»{35}.
Этот первый проблеск собственного чувства греха в душах эллинского правящего меньшинства кажется настолько же не обещающим ничего хорошего, насколько отталкивающим. Однако четыре столетия спустя мы обнаруживаем собственное эллинское чувство греха, которое, без всякого сомнения, очистилось в пламени страдания. В голосе эллинского правящего меньшинства эпохи Августа мы слышим почти христианскую ноту, о чем свидетельствует поэзия Вергилия. Хорошо известный отрывок в конце первой песни «Георгик» — это молитва об избавлении от мучительного чувства самотека, которая принимает форму исповеди в своих грехах. Кроме того, хотя грех, об освобождении которого поэт умоляет Небеса, номинально является «первородным грехом», унаследованным от легендарного троянского прародителя, этот отрывок со всей своей силой заставляет читателя осознать, что здесь он имеет дело с аллегорией. Грех, в действительности искупаемый римлянами времен Вергилия, это грех, который они совершали в течение двухвекового периода скатывания, в который вступили, ввергнув свою страну в войну с Ганнибалом.
За столетие, прошедшее со времени написания поэмы Вергилия, дух, вдохновлявший его, стал преобладать в слоях эллинского общества, которое едва ли еще вошло в диапазон излучения христианства. В ретроспективе становится ясным, что поколения Сенеки и Плутарха, Эпиктета и Марка Аврелия непреднамеренно готовили свои сердца к тому, чтобы наполнить их светом, шедшим из пролетарского источника. Причем ни один изощренный эллинский интеллектуал никогда не предсказал бы, что от этого источника можно ожидать чего-либо хорошего. И невольное при-уготовление сердца, и — в данном избранном случае — изощренное отрицание пролетарского просвещения с замечательной проницательностью и меткостью изображены Робертом Браунингом в характерном наброске «Клеон». Клеон, вымышленный философ, представитель эллинского правящего меньшинства I в. н. э., пришел в результате своего изучения истории к душевному состоянию, которое описывает как «глубокое разочарование». Тем не менее, когда ему предлагают направиться к «некоему Павлу» за разрешением его проблем, которые он не смог разрешить сам, его amour-propre[162] просто возмущено:
Ты думаешь, что варвар-иудей,
Каков и сей обрезанный твой Павел,
Владеет тайной, скрытою от нас?[163]
Эллинское и сирийское общества, несомненно, были далеко не единственными цивилизациями, в которых чувство греха пробудилось в результате потрясения, вызванного зрелищем того, как древняя общественная структура потерпела крах. Не пытаясь составить список подобных обществ, мы можем в заключение задаться вопросом: а не присоединится ли к ним и западное общество?
Чувство греха — это, без сомнения, то чувство, с которым наш современный западный гомункулус вполне знаком. Знакомство с ним, на самом деле, почти что навязано ему, ведь чувство греха является главной отличительной чертой той «высшей религии», которую он получил в наследство. Однако в данном случае знакомство, по-видимому, до недавнего времени воспитывало в людях не столько презрение, сколько позитивное отвращение. Контраст между этим характером современного западного мира и противоположным ему характером эллинского мира VI в. до н. э. обнаруживает склонность к порочности в человеческой природе. Эллинское общество, начав свою жизнь со скудным и неудовлетворительным религиозным наследством в виде варварского пантеона, по-видимому, осознало свою духовную нищету и приложило все усилия, чтобы заполнить эту пустоту, создав в лице орфизма «высшую религию» того же рода, какую некоторые другие цивилизации получили в наследство от своих предшественниц. Характер орфического ритуала и учения ясно показывает, что чувство греха было сдерживаемым религиозным чувством, для которого грекам VI в. до н. э. не терпелось найти нормальный выход. В противоположность эллинскому обществу западное общество является одной их тех щедро одаренных цивилизаций, которые выросли под эгидой «высшей религии» внутри куколки вселенской церкви. Возможно, именно потому, что западный человек всегда был способен доказать свое христианское происхождение, он так часто недооценивал его и теперь близок к тому, чтобы от него отречься. В самом деле, культ эллинизма, являвшийся весьма могущественной, а во многих случаях и весьма плодотворной составляющей западной секулярной культуры со времен Ренессанса, частично стимулировался и поддерживался общепринятой концепцией эллинизма как образа жизни. Эта концепция великолепно сочетала со всеми современными западными добродетелями и достижениями прирожденную и не требующую усилий свободу от того чувства греха, которое западный человек теперь усердно пытается удалить из своего христианского наследия. Далеко не случайно, что хотя новейшие разновидности протестантизма и сохраняют представление о Небесах, они совершенно отбросили представление об аде и отдали представление о дьяволе на откуп сатирикам и комедиографам.