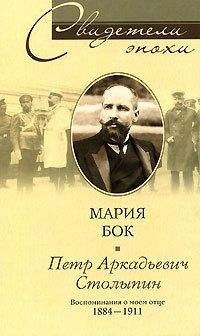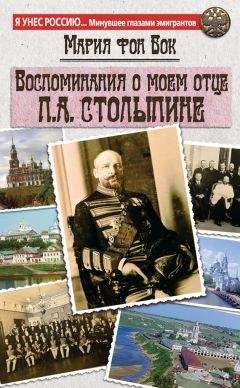М Бок - Воспоминания о моем отце П А Столыпине
- Повар, Петр Аркадьевич, повар. Он не признает моего авторитета. Я ему заказала котлеты с морковью, а он подает их с горошком... Это ужасно.
Зетинька говорила так искренно возмущенно и так комично, что мы все, не исключая и папa, громко рассмеялись. Это было первый раз, что мы смеялись после взрыва.
С трудом удалось успокоить Зетеньку; к вечеру лишь она сказала, что больше не обижена на нас за наш смех, но от каких бы то ни было разговоров с поваром отказалась наотрез и оставила за собой лишь проверку счетов и меню.
Трудно описать, что переживал за эти дни мой отец. Боязнь за жизнь дочери и страх, что она в лучшем случае останется без ног; единственный трехлетний сын весь перевязанный в своей кровати - и по нескольку раз в день известия из больницы: то умер один раненый, то другой. Папa косвенно приписывал себе вину за эту кровь и эти слезы, за мучения {188} невинных, за искалеченные жизни и страдал от этого невыносимо.
Это единственное время с тех пор, как папa стал министром, что я свободно, как в детстве в Ковне, входила в его кабинет. Я всем своим существом чувствовала, что я ему нужна. Мамa не было дома и, не находя поддержки в близком существе, ему трудно было бы, несмотря на всё свое самообладание, найти в себе, в первые дни после взрыва, достаточно сил для работы. А он не только нашел их вскоре, но, не прерывая работы ни на один день, стал еще энергичнее вести свою линию. Многие из его сотрудников говорили, что "после 12-го августа престиж Петра Аркадьевича, не давшего себя сломить горем, так поднялся среди министров и двора, что для всех нас он стал примером моральной силы".
{189}
Глава Х
От поездок к своим раненым детям папa возвращался в ужасно тяжелом настроении: Адя лежал теперь довольно спокойно, но Наташа страдала всё так же. Через дней десять доктора решили окончательно, что ноги удастся спасти, но каждая перевязка была пыткой для бедной девочки. Сначала они происходили ежедневно, потом через каждые два, три дня, так как таких страданий организм чаще выносить не мог. Ведь хлороформировать часто было невозможно, так что можно себе представить, что она переживала. У нее через год после ранения извлекали кусочки извести и обоев, находившихся между раздробленными костями ног. Кричала она во время этих перевязок так жалобно и тоскливо, что доктора и сестры милосердия отворачивались от нее со слезами на глазах. Она до крови кусала себе кулаки, и тогда тетя, Анна Сазонова, помогающая в уходе за ней, стала держать ее и давала ей свою руку, которую она всю искусывала.
Адя стал лежать тихо, когда прошло острое нервное потрясение первых дней и пресерьезно спросил папa:
- Что этих злых дядей, которые нас скинули с балкона, поставили в угол?
Государь, когда ему передал эти слова папa, сказал:
- Передайте вашему сыну, что злые дяди сами себя наказали.
{190} При первом приеме после взрыва государь предложил папa большую денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал:
- Ваше Величество, я не продаю кровь своих детей.
Стали нам на Фонтанку приносить с Аптекарского спасенные вещи; большие узлы с бельем, платьем и другими вещами. Маруся и я принялись их разбирать, но скоро с ужасом бросили это занятие - слишком много кровяных пятен было на вещах, и даже попался нам кусок человеческого тела.
Принесли и футляры от драгоценных вещей моего отца и моих, но только футляры. Драгоценностей в них не было ни одной. Позже папa вспоминал, что, когда он сразу после взрыва пробегал в переднюю через свою уборную, он видал каких-то людей в синих блузах копошащихся над его туалетным столом. Кто они были и как попали сюда почти в момент покушения, осталось необъясненным.
Мои золотые вещи лежали в шкатулке, находящейся в шкапу моей комнаты. Шкап нашли совсем разломанным, а мне вернули сломанную шкатулку со всеми в ней лежавшими футлярами, аккуратно в ней уложенными и пустыми все до одного.
Конечно драгоценности почти все были детские, но были между ними и очень ценные серьги с солитерами, оставшиеся мне от бабушки. Большую шкатулку с бриллиантами мамa спас наш верный Казимир.
Удаливши меня от окна, в момент взрыва, Казимир по обломкам, пробрался в спальную моих родителей, спокойно и деловито разыскал между обломками ящик, где, как он знал, хранились драгоценности, выкинул его через окно в кусты и, спустившись потом в сад, взял шкатулку и уже на Фонтанке сдал моей матери.
{191}
Глава XI
Очень недолго жили мы на Фонтанке. Государь предложил папa переселиться в Зимний дворец, где гораздо легче было организовать охрану. Аде и Наташе были отведены громадные светлые комнаты, и между ними была устроена операционная. Наташина комната была спальной Екатерины Великой.
Скоро обоих наших раненых перевезли во дворец и Наташина комната наполнилась цветами, подарками, конфетами, а, немного спустя, и гостями.
Как ни казалась мне жизнь на Аптекарском мало свободной, но что это было по сравнению с Зимним дворцом. Всюду были часовые, и мы положительно чувствовали себя как в тюрьме.
Когда мы еще жили на Аптекарском, вздумали мы с Марусей поехать посмотреть Зимний дворец. У нас спросили письменное разрешение, какового у нас не было, и хотя мы сказали, кто мы и приехали на казенных лошадях с министерским кучером и выездным лакеем, нас не впустили. Часто потом, живя в этой почти что крепости, вспоминали мы этот случай.
Сестер пускали бегать в сады: один внизу большой, а другой во втором этаже, где росла целая аллея довольно больших лип. Но дети с первого же дня возненавидели эти сады и прозвали их: "Gross Sibirien" и "Klein Sibirien".
Папa, для которого жизнь без моциона была бы {192} равносильна при его работе лишению здоровья, гулял по крыше дворца, где были устроены удобные ходы, или по залам. Кабинет, уборная папa, спальная моих родителей, всё это было устроено не по их выбору, а по соображениям и распоряжениям охраны. Мой отец беспрекословно всему подчинялся - кажется, в это время он мало и замечал, что творится вне его работы и семьи. Слишком велико было усилие воли, требуемое на то, чтобы, переживая то, что он переживал, исполнять всю гигантскую работу, лежащую на его плечах.
Часто, когда мои родители гуляли после обеда по залам дворца, ходили и мы туда же. Грустный и жуткий вид являли эти залы, освещенные каждая одной лишь дежурной лампочкой. В этом полумраке казались они еще громаднее, чем днем, еще таинственнее говорили их стены о днях блеска, пышности и величия. Днях, когда никакое посягательство на самодержавие не колебало трона русских царей.
Строгой и стройной амфиладой тянулись зала за залой, гостиная за гостиной. Гордо и уверенно глядели со стен портреты императоров и таинственно блестела в полумраке позолота рам, мебели и люстр. А в тронном зале покрытый чехлом трон навевал тяжелые думы.
Странно - сильна и крепка была еще монархия, на недосягаемой высоте, окруженный ореолом вековой славы, возглавлял Россию ее император; революция притихла, припала к земле, примолкла... а, вместе с тем, какое-то инстинктивное чувство сжимало грудь в этом огромном дворце, никогда больше не оживавшем, не видящем теперь ни нарядных балов, ни приемов, будто забытом всей царской семьей. Одни дежурные лакеи лениво шаркали по пустым залам и оживлялись лишь, когда начнешь их расспрашивать про былые дни величия и славы.
{193} Из моей спальни был прямо вход в Эрмитаж и после дежурства у Наташи, особенно тяжелого, когда она бредила, было огромным наслаждением выйти из нашего окруженного часовыми помещения и отдохнуть душой среди творений великих мастеров.
{194}
Глава XII
Как-то утром я нашла рядом со своей чашкой кофе письмо с адресом, написанным совсем незнакомым почерком. Открыв его, я с удивлением увидела, что оно без подписи, а, прочтя его, удивилась еще больше. Писал какой-то незнакомый мне мужчина, начиная свое послание словами: "Зная, что Вы разделяете наши взгляды и что, несмотря на Ваше чудовищно отсталое воспитание, Вы достаточно культурны, чтобы интересоваться музеями и картинными галереями, и посещаете их...". Дальше же мне предлагалось в одном из музеев встретиться в определенный час с моим корреспондентом, который введет меня в кружок "наших с Вами единомышленников", и где я, наконец, сбросив мучащие меня, по его мнению, "нравственные цепи", могу свободно предаться счастью партийной работы. В конце письма стоял адрес какой-то дамы, на имя которой я должна была отвечать. Я не знала, что и думать.
Всё это было так дико и непонятно. Но, перечтя еще раз письмо, я показала его только Марусе и разорвала.
Какое-то внутреннее чувство не позволило мне показать письмо моим родителям. Я сама не знала, права я или нет, но мне казалось неблагородным выдавать человека, как никак доверившегося мне: "Ну что ж, - рассуждала я, увидит этот господин, что ошибся, и отстанет".
{195} Но он не отстал, и я дней через пять получила второе письмо, тем же почерком. Но тон его был наглый, и содержание его так меня взорвало, что я, не теряя минуты, снесла письмо папa, как раз сидевшему за, утренним кофе. Только я все же зачеркнула адрес.