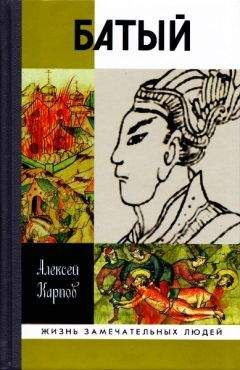Яков Гордин - Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России
Василий Андреевич был человеком чувствительным и доверчивым. Это окрасило его воспоминание. Любопытно, что, потрясенный и умиленный происходящим, он увидел в церкви только Николая. Между тем сам великий князь ясно пишет в дневнике, что рядом с ним находились Милорадович, принц Евгений Вюртембергский и генерал-адъютант Голенищев-Кутузов.
Жуковский не мог знать, что в эти мгновения завершился "государственный переворот", начатый Милорадовичем и его сторонниками вечером 25 ноября. Жуковский, сквозь слезы умиления взиравший на всхлипывания великого князя, выкрикнувшего напоследок имя человека, который имел не более прав на престол, чем он сам, не мог знать, какие чувства испытывает Николай. Да и мы не можем в полной мере оценить состояние великого князя, твердо знавшего, что присягать должны были ему.
Но рядом стоял Милорадович.
Позже, когда стало известно завещание Александра и давнее отречение Константина, многие восхищались самоотверженностью и бескорыстием Николая, знавшего это и тем не менее мгновенно присягнувшего старшему брату.
Ни самоотверженности, ни бескорыстия, ни великодушия тут не было.
Был граф Милорадович и его "60 000 штыков".
Началось стремительное движение к взрыву. Милорадович и его сторонники загнали ситуацию в тупик.
Немедленно после собственной присяги (трое генералов присягнули вслед за ним) Николай привел к присяге внутренний дворцовый караул, дежурному генералу Главного штаба Потапову приказал привести к присяге главный дворцовый караул, а начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-майора Нейдгардта послал в Александро-Невскую лавру. (В лавре на молебне во здравие Александра собран был гвардейский генералитет во главе с Воиновым.)
Вскоре началась повсеместная присяга полков Константину.
На современников действия Николая произвели впечатление истерической спешки. Графиня Нессельроде писала в письме: "Великий князь проявил большую торопливость: он на все стороны приказывал присягать без всякого порядка, что к тому привело, что войска выполнили это раньше правительственных властей".
Это надо запомнить — подмена наследника повлекла за собой противозаконный порядок присяги: войска присягнули раньше правительствующих учреждений, хотя следовало присягать наоборот. Но удивленная этим графиня не знала подоплеки происходящего. Милорадович так успешно запугал великого князя настроением гвардии, что Николай спешил убедить именно гвардию в полном нежелании посягать на права Константина. Призрак гвардейского бунта, прекрасно гармонировавшего с тем, что он знал о смерти своего отца и деда, стоял перед ним эти двое страшных суток.
Теперь же, однако, ему предстояло другое, куда менее страшное, но весьма неприятное испытание — объяснить свое поведение тем, кто знал об истинном положении дел с престолонаследием.
Когда Николай пришел к императрице-матери и рассказал о происшедшем, она в ужасе воскликнула: "Что вы сделали? Разве вы не знаете, что есть акт, назначающий вас наследником?" Чувства императрицы-матери можно понять: рухнула ее многолетняя надежда увидеть Николая на престоле.
Петербургский гарант завещания покойного императора князь Александр Николаевич Голицын находился во время присяги в лавре. Услышав о смерти Александра, он бросился во дворец. Встреча с ним была, надо полагать, одним из самых неприятных впечатлений Николая в этот день. "В исступлении, вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, он начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сим завлек, и повторил мне, что слышал от матушки, и требовал, чтобы я повиновался мне неизвестной воле покойного государя; я отверг сие неуместное требование положительно, и мы расстались с князем: я — очень недовольный его вмешательством, он — столь же моей неуступчивостью".
Теперь, когда вопреки закону и традиции войска присягнули первыми, надо было организовать присягу правительствующих учреждений, и прежде всего Государственного совета. Поскольку один из экземпляров завещания хранился именно в Государственном совете, то вопрос о престолонаследии неизбежно должен был встать и там — и с особой остротой.
ОТСТУПЛЕНИЕ: РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В СФЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИВ июле 1826 года, перед тем как отправиться на каторгу, бывший капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович писал отцу: "Батюшка! в последний раз мне суждено говорить с вами, и я как откровенный солдат обнаружил мою душу. Вы бы могли требовать этого как отец от сына, но я признан недостойным носить имя это, законы меня осудили, и я погиб, погиб невозвратно. Надежда моя, вспорхнувши при переломе шпаги, над полуразрушенной головой моей, опалила крылья на огне, где горел знак, купленный презрением к жизни, и я достоин этой участи. Ах! Для чего убийственный свинец на горах Кавказских не пресек моего бытия? Для чего я искал спасения в острие моей сабли? Позор ужаснее смерти! Я был не столько в душе преступником, сколько желал оным сделаться. Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиною моей погибели. Батюшка! У вас остался сын, предостерегите его моим несчастным примером, бедственная жизнь моя усладится мыслию, что я своим трупом загородил пропасть, ужасную для неопытных".
Документ этот по сути своей полон истинного драматизма. Но когда читаешь его, трудно отрешиться от впечатления, что письмо написано персонажем романтической повести.
Якубович действительно существовал в двух ипостасях — храброго до отчаянности кавалерийского офицера, толково исполнявшего опасные поручения генерала Ермолова на Кавказе, и воплощенного романтического персонажа с соответствующей фразеологией и завышенными реакциями. Мы говорим здесь об этом потому, что Якубович со своими удивительными качествами сыграл важную роль в канун 14 декабря и в самый день восстания.
Как мы увидим, в этих событиях активно участвовала целая группа людей, у которых были личные счеты с императором Александром, что в значительной степени и являлось подоплекой их революционной активности. Якубович был одним из них.
В 1818 году его выключили из лейб-гвардии Уланского полка и отправили на Кавказ, как он утверждал, за секундантство в дуэли Завадовского — Шереметева, окончившейся смертью Шереметева. Поскольку Завадовский, происходивший из влиятельной семьи новой екатерининской знати, вообще не был наказан и отправился путешествовать за границу, то Якубович разглашал, что с ним поступили несправедливо. Приказ о переводе Якубовича из гвардии подписан был царем. (На самом деле приказ о его переводе подписан был до дуэли. Причиной послужило слишком бурное поведение уланского корнета.)
Капитан Якубович сознательно создавал вокруг себя атмосферу романтической избранности и обреченности. Несправедливая опала, прервавшая карьеру, отчаянные военные подвиги в Кавказской войне, тяжелое ранение в голову, высокий рост, выразительное лицо, звучный голос, брутальное красноречие — ко всему этому Якубович охотно добавлял политическую оппозиционность.
Он не был революционером. Он был фрондером. Но по сложившимся обстоятельствам примыкал к периферии тайных обществ. Однако в подходящих ситуациях романтическое позерство и свободное воображение заводили его очень далеко. Погубленную карьеру капитан Нижегородского драгунского полка возмещал особо-стью личности и судьбы.
В 1824 году на Кавказских минеральных водах Якубович встретился с князем Сергеем Волконским. Волконский вспоминал:
"При первом знакомстве с ним я убедился, что опала, над ним разразившаяся, явные, нескрываемые прогрессивные убеждения его и при этом заслуженное общее мнение сослуживцев о нем, как об отличном боевом лице, угнетенном опалой, — все это могло быть мне ручательством, что я встречу в нем сочувствие к общему затеянному делу того общества, в котором я был членом, и я решился узнать от него, точно ли есть тайное общество на Кавказе и какая его цель?
Постепенно, ведя с ним разговоры интимные, судя по его словам, я получил если не убеждение, то довольно ясное предположение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу. Это меня ободрило к большей откровенности, и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: "Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступить к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитый, известный всей России, а при неудаче общей здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности…" Был ли рассказ Якубовича оттиском действительности или вымышленная эпопея, тогда мне трудно было решить, но теперь, после совместного тюремного заключения с ним, где каждое лицо высказывается без чуждой оболочки, я полагаю, что его рассказ был не основан на фактах, а просто был, как я уже назвал, эпопея, сродная его умственному направлению".