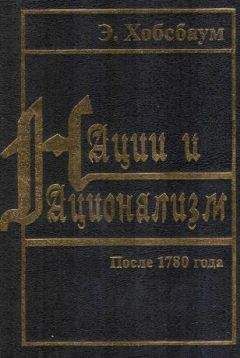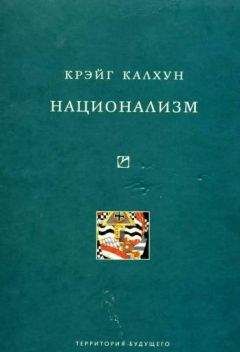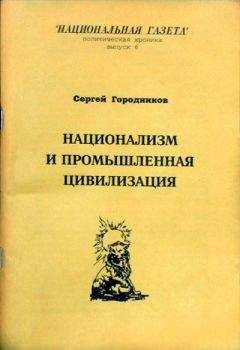Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
«Год тому назад я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорной русского, который читал сочинения Хомякова в новом издании. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы одинаково поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы. Патологическое описание Хомякова верно, но из этого не следует, что я согласен с его теорией и с его объяснением зла» (XVIII, 279).
Вся стилистика этого пассажа призвана как принизить нелюбимого Герценом Хомякова (указание на случайность обращения к его текстам, прочитано что-то в пути, между делом – и явно не заслуживает возвращения [62] ), так и, что важнее, продемонстрировать перевод с ложного языка, на котором рассуждают славянофилы, на язык «действительности» при убежденности, что этот язык можно без потерь отбросить, собеседник способен перейти на язык Герцена. Если для славянофилов принципиальной была попытка конфессионального мышления, конфессионального философствования (не нам судить, насколько она оказалась успешной в своей реализации), то для Герцена это неприемлемо, он отказывается принимать эту попытку всерьез, для него она не более чем интеллектуальное упражнение, совершаемое оппонентом, в которое он сам не может до конца верить.
Впрочем, и в дальнейшем А. И. Герцен в публицистике отделял славянофилов от других противников «справа». Так, в 1865 году, когда вновь поднялись споры вокруг общинного землевладения (в связи с обсуждением вопроса в Вольном экономическом обществе, выступившего против общинного владения), Герцен писал: «И куда делись все рьяные, матерые друзья и защитники младших братьев, общины, общинного землевладения? Где И. Аксаков? Где Ю. Самарин? Не лучше ли было бы вместо духовного “Дня” издавать “День” светский и ломать копья за наше право на землю, чем отвечать целыми печатными листами убийственной скуки какому-то отцу Мартынову, которого письма никто не читал и читать не будет? Проснитесь, Бруты! Пока вы ликовали победу над Польшей и занимались уничтожением иезуитов – посмотрите, какую безобразную голову подняло православное помещичество» (XIX, 12).
К куда более существенным последствиям для самого Герцена привела недооценка им национального принципа. Он принял национализм как общее место левой европейской политической мысли своего времени без серьезного осмысления. Не случайно в своих текстах он практически не обращается к подобной проблематике, не помещает в центр специального рассмотрения. Народ (нация) для него существует фактически, как данность – она под вопросом в смысле своего «исторического призвания», роли «народа исторического», но вот как «народ» она беспроблемна. Русская нация представляется ему, видимо, уже существующей – задача лишь в том, чтобы снять внешние скрепы «Петербургской империи». Для славянофилов же (как и для М. Н. Каткова, например) нация – это то, что еще только предстоит построить (см.: Тесля, 2012a: 103–105). Показательно, как в момент польского восстания Герцен предлагает плебисцит на спорных территориях (северо-западных и юго-западных губерний): народ сам скажет, кто он, к какому государству он желает принадлежать (или желает быть самостоятельным – см., например: XVII, 209). Для славянофилов народное начало подвижно – отсюда острота польского вопроса, внимание к северо-западным губерниям. «Русскость» их не данность, а возможность – есть народ, который по обычаям, нравам, языку является «русским», и есть самосознание, которым он не обладает – сам он имеет либо конфессиональную, либо локальную идентичность (точнее, как правило, ту и другую одновременно): он православный и из-под Гродно. Он может стать русским, обрести русскую идентичность (к чему дает основание его конфессиональная самоидентификация) и может стать поляком – это не определено, это зависит от конкретных действий властей и общества и их интенсивности и последовательности. Оттого спрашивать его сейчас так, как предлагает Герцен, бессмысленно, поскольку он либо ответит так, как «угодно власти», либо так, как он считает, что власти угодно, либо попросту не поймет вопроса, поскольку не описывает себя в подобных понятиях. Отсюда тревожность и напряженность славянофильского отношения к западным губерниям в 1860-х годах и в дальнейшем – еще ничего не решено, все в процессе становления.
Поскольку народ/нация для Герцена данность, он имеет возможность укоренить свой проект исключительно в будущем, когда под вопросом оказывается реализация всемирного призвания русского народа, но не его существование и не границы его «физического бытия», точнее, не в большей мере, чем границы любого другого народа. В этом смысле нам представляется наиболее верной позиция В. Г. Щукина, связывающего историософские взгляды Герцена с Чаадаевым, по отношению к которому большинство западников «не проявили непосредственного интереса». В отличие от них «именно он поддерживал наиболее тесные личные связи с Чаадаевым. <…> Позднее, разочаровавшись в классическом западничестве, Герцен вспомнит о романтической утопии Чаадаева и разовьет ее на материалистической основе» (Щукин, 2007: 29) [63] – разовьет в том плане, что найдет и тот особый принцип, который призван внести во всемирную историю русский народ, реальное воплощение социализма, материальным залогом чего выступает славянская община. В результате и его отношение к общине существенно разойдется со славянофильским – если для большинства славянофилов община была важным элементом «русского мира», но не «священным», что допускало рациональное к ней отношение, проявившееся, в частности, в разработке крестьянской реформы, то для Герцена эмпирическая община как таковая была не важна – куда важнее был «образ общины» и размышления над тем, как совместить «общинное начало» со «свободой личности».
Подводя итог, можно сказать, что влияние славянофилов на Герцена приходится на 1842–1844 годы и состоит преимущественно в усвоении повестки: она была воспринята Герценом, но почти по всем ее вопросам он дал свой собственный ответ, а в тех случаях, где оказывался созвучен славянофилам, почти всегда речь шла об общем круге идей или параллельной разработке. Наиболее важное содержательное заимствование, сделанное Герценом, заключалось в усвоении и трансляции «образа русского народа», выработанного славянофилами и легшего в основу консенсуального образа, формирование которого завершилось к 1880-м годам. Обратное влияние, оказанное преимущественно на И. С. Аксакова и через это в разной степени воспринятое различными направлениями русской консервативной мысли 1860—1900-х годов, заключалось во внесении в славянофильскую историческую схему динамического аспекта и постановке вопроса о субъекте, носителе данной динамики, истолкованного в качестве «общества», роль которого заключается в осознании «народного духа», «народных начал» и в их привнесении в политическое пространство.
«Славянофильский историк»
Иван Дмитриевич Беляев принадлежит к русским историкам XIX века «второго плана»: не будучи окончательно забыт (о чем свидетельствуют переиздания его трудов), он в то же время редко привлекает специальный исследовательский интерес, чему есть объективные причины – и нелюбовь к концептуальным схемам, пристрастие к конкретному, преимущественно актовому материалу, что вызывает уважение и ценится с профессиональной точки зрения, но, соответственно, закономерно ведет к угасанию интереса по мере введения новых источников; и некоторая «вялость» стиля, а нечастые патетические моменты редко находят выражение помимо казенного. Тем не менее работы Беляева представляют интерес не только историографический, ведь он был одним из немногих профессиональных историков, придерживавшихся близких к славянофильским взглядов, стремясь насытить историософские рассуждения конкретным историческим содержанием (и тем самым, быть может, до некоторой степени непроизвольно, корректируя их). Его биограф С. А. Гадзяцкий оставил в 1890-е годы следующую характеристику: «Эти взгляды Ивана Дмитриевича примыкают к славянофильскому учению об обществе и государственной власти, выставленному <…> впервые М. П. Погодиным и философски обоснованному И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым и позже Ю. Ф. Самариным и И. С. Аксаковым; в частности, Иван Дмитриевич является сторонником общинного быта. Одна разница только в трудах Ивана Дмитриевича и славянофилов: у тех намечен лишь общий план, брошено лишь несколько светлых мыслей, Иван Дмитриевич обосновывает их, из летописей, актов он выводит целый ряд документов в пользу их, подробно разрабатывает самые вопросы» (цит. по: Кривошеев, 2004: 9).
Родившись в 1810 году в семье московского дьякона, он прошел нередкий для того времени путь одаренных людей – обучаясь в Московской духовной семинарии, он в 1829 году выходит из нее и поступает в Московский университет на нравственнополитическое отделение (в будущем преобразованное в юридический факультет), который и оканчивает в 1833 году в звании кандидата. Однако, несмотря на то что выпускается он четвертым по списку, его дальнейшая карьера идет достаточно тяжело – по окончании университета он определяется канцелярским чиновником в московскую контору Священного синода, в 1836 году заслужив повышение до протоколиста. От дальнейшей канцелярской рутины его спасает Михаил Петрович Погодин, учивший его в бытность Беляева студентом и обративший внимание на трудолюбивого и внимательного выходца из священнического сословия (в свою очередь, Беляев с любовью и признательностью отзывался о своем наставнике; впрочем, отношения их были не без шероховатостей, что, учитывая специфический нрав Михаила Петровича, скорее житейская норма). Благодаря Погодину Беляев поступает в Архив при Московском департаменте Правительствующего Сената, а затем – в Сенатский архив старых дел. Здесь он получает возможность научных занятий, разбирая старые архивные дела и постепенно становясь знатоком приказного московского делопроизводства. Попутно Погодин, любивший извлекать все возможные выгоды и привлекать труд молодых, особенно когда воспользоваться им можно было без денежного обременения, поручает Беляеву описание своего древлехранилища и дает работу в «Москвитянине», где в 1842–1846 годах будут публиковаться преимущественно рецензии Беляева, а в 1844 году он издаст первое свое исследование – «Город Москва с его уездом».