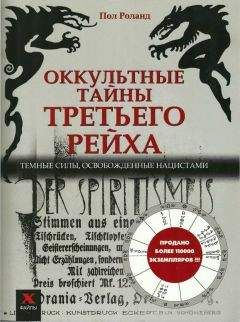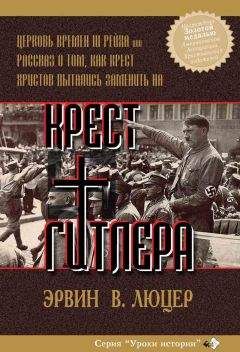Юрий Воробьевский - Неизвестный Гитлер
Что там — какой-то студент или писатель! Массовая бойня Второй мировой — вот к чему приложил свою судорожную руку Ницше!
Естественно, идея самоубийства жила и в Гитлере. «Прежде чем наложить на себя руки в 1945 году, он уже несколько раз собирался совершить суицид: в 1924 году перед арестом после провала путча и в 1932 году, когда уход Штрассера мог вызвать раскол партии»…
Может, он тоже интуитивно понимал, что ему надо «откупиться»? Сначала — «послепутчевской» книгой «Майн кампф». А потом (поскольку демон не отступал) и еще более убийственными делами. В 1939 году, перед началом Второй мировой войны, Гитлер вещал: «Речь идет не о каком-то частном вопросе, а о том, быть или не быть нации».
«Один наблюдатель из его ближайшего окружения отмечал в последние дни августа ярко выраженную «тенденцию к смерти в стиле Нибелунгов».
Смерть и влекла его, и пугала. Так он томился всю жизнь.
Американская карикатура на Гитлера. 1933 г.
…Со смешанным чувством ждал он в своей горной резиденции «Бергхофф» звонка из Москвы, от Риббентропа. Договор с Россией должен был говорить о мире, но означал последний этап подготовки к крупнейшему жертвоприношению человеческой истории. Наконец звонок раздался. После разговора Гитлер с чувством облегчения вышел на террасу. Потирал руки. Полный мирных заверений договор заключен. Быть войне! Скоро генералы приступят к разработке плана «Барбаросса». Гитлер бросает взгляд на окружающие горы, в недрах которых, по преданию, спит император Фридрих… Какой сильный порыв ветра! Что это?! В одно мгновение небо становится ужасным! Кровавые и зеленоватые блики на низких, черных, клубящихся тучах! Они подсвечены словно не нашим, земным, а загадочным «черным» солнцем». Как будто отсветы разверзшегося, торжествовавшего, ждавшего обильную пищу ада предстали перед глазами Гитлера! Одна из его привержениц прошептала в ужасе: это к страшной крови! Фюрера трясло. Он крикнул что-то истерическое и покинул свое окружение.
Смерть Брунхильды
Своей улыбкой странно-длительной,
Глубокой тенью черных глаз,
Он часто, юноша пленительный,
Обворожает скорбных нас.
«Демон самоубийства» — так назвал Брюсов свое стихотворение. Его герой — не отвлеченный принцип зла. Инфернальный персонаж личностен и деловит, как и бывает в жизни. Устами Брюсова он внушает «навязчивые мысли».
В ночном кафе, где электрический
Свет обличает и томит,
Он речью дьявольски-логической
Вскрывает в жизни нашей стыд.
Он в вечер одинокий — вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате
Нам подает в стакане яд.
Он в темный час, когда как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож…
В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он, молча, в барабан…
Как и у другого романтика смерти, Алистера Кроули, все женщины, возникавшие в жизни Брюсова, заканчивали жизнь самоубийством.[58] Многие женщины Гитлера, также подверглись страшной «инфекции». Список начинает Мария Райтер, которая пыталась покончить с собой в 1925 году. В 1939 году такую же попытку совершила английская аристократка Валькирия Юнити Митфорд. Высокая статная красавица, жизнерадостная… И вдруг! Она словно воспроизвела суицидный «архетип» валькирии оперной. Сделала два выстрела в голову. Оставшиеся девять лет жизни Митфорд провела инвалидом. В каком-то смысле и она бросилась в пылающий огонь «Валгаллы»… На этом список не заканчивается. После ночи, проведенной с Гитлером, Сюзи Минтауэр повесилась. Известная актриса Рената Мюллер выбросилась из окна. О трагической судьбе Гели Раубаль мы уже говорили. Менее известно, как, уходя из жизни, Гитлер хотел увлечь за собой и личного пилота Ханну Рейч, предлагая ей ампулу с ядом. Она отказалась и успела вылететь из Берлина. Но этот путь был для Гитлера заказан. Он должен был покончить с собой! Его самого ведь не раз «утешали» слова Ницше: «Мысль о самоуийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи…»
Фридрих II. 1764 г.
Возникшие позже легенды о спасении Гитлера и смерти двойника совершенно не учитывают главного: больной, захваченной демоном души этого человека. Он был одержим безвозвратно. Породившая его культура не предусматривала спасения души. Неоязыческое самопосвящение Вотану от «копья силы»; напоминающая ритуальную слепота на фронте; все шоки его жизни; ритуал постоянного просмотра «Гибели богов» — стали этапами его инициации. Точнее — порабощения воли…
Финал «Гибели богов» гремит трагическими трубными звуками. Брунхильда отдает злосчастное кольцо власти дочерям Рейна. Она вернула страшный долг! Валькирия бросается в погребальный костер Зигфрида. Сцена освещается красными прожекторами. Все гибнет.
К самому фюреру смерть приближалась на фоне страшных и нелепых декораций. Итак, восьмиметровая глубина бункера. «… такой уход под землю отвечал все явственнее проявлявшимся главным чертам его натуры: страху, недоверию и отрицанию реальности» [47]. И вот он мрачно сидит под портретом Фридриха II, машинально поглощая очередную тарелку заварных пирожных. На впалых старческих щеках и усах остаются крошки.
Только что ушел верный Геббельс. Он вслух читал «Историю Фридриха Великого», нашел в ней то место, где описываются поражения пруссаков от русского оружия. Страшная зима 1761/62 годов. Фридрих уже готов принять яд, но слышит своевременное увещевание: «Отважный король, погоди еще немного, и твои мучения кончатся, уже восходит за тучами солнце твоего счастья, которое вот-вот покажется». 12 февраля умерла царица, и свершилось чудо Бранденбургского дома… Фюрер слушал и плакал. Он вспоминал ту короткую надежду, которую дало известие о смерти Рузвельта. Увлекшийся гороскопами Геббельс кричал в трубку: «Мой фюрер, я поздравляю Вас. Звезды предсказали, что вторая половина апреля принесет нам переломный момент. Сегодня — пятница, 13 апреля. Это переломный момент!»
Но — день проходил за днем, и все надежды снова пропали… Остатки воли самого фюрера, несмотря на его склонность к театральным трагедиям, тянулись к жизни. Однако другая, гораздо более могучая воля, требовала смерти. Она издевалась над своей жертвой и пугала ее, попадая в самое больное место этого театрала. Гитлер неоднократно повторял, что не хочет попасть в плен и стать главным персонажем в «поставленной евреями пьесе». Да, лучше смерть. И для самого фюрера, и для всей Германии.
«С приближением краха значительно четче проступили и тенденции к мифологизации. Штурмуемая со всех сторон Германия уподобляется теперь одинокому герою. Гитлер в очередной раз мобилизует глубоко укоренившуюся в немецком сознании тягу к идеализируемому презрению к жизни, к романтике поля брани… Вагнеровские мотивы, германский нигилизм и какая-то романтика гибели входили сюда пестрой и похожей на оперную постановку составной частью. «Лишь одного еще хочу я — конца, конца!» Разумеется, неслучайно Мартин Борман в своем последнем сохранившемся письме из Имперской канцелярии, написанном в начале апреля 1945 года, напоминает своей жене о гибели «доброй памяти Нибелунгов в зале короля Этцеля», и вполне можно предположить, что старательный секретарь и этот образ перенял у своего патрона» [47].
Жена Геббельса Магда на коленях умоляла его спасти для Германии свою жизнь. Он и здесь не отказал себе в театральном жесте: решительно оттолкнул плачущую женщину. Он сказал, что никуда не уйдет из Берлина и останется здесь «на вечном посту».
Ах, как дрожит левая рука! Не унять. На кителе (небывалое дело!) — пятна от пролитого овощного супа. Серое лицо. Синяки под налитыми кровью глазами. Взгляд опустошен.
Бетонные стены, деревянная софа, три кресла. На столе — очки с огромными диоптриями и лупа. Бумаги с увеличенным шрифтом. Небольшой столик с радиоприемником. Он молчит[59]. Тишина и электрический свет как будто подчеркивают искусственность его существования.
Последние усилия воли направлены только на одно — увлечь за собой как можно больше людей. Послать их в бой.
Еще недавно, в январе, в своем последнем выступлении он попытался внушить по радио всей Германии: победит не Азия, а Европа.
Усилием воли он пытается натянуть на себя какое-то подобие маски прежнего фюрера. Сейчас ему предстоит в последний раз подняться на поверхность. Но сначала — мучительно — проковылять двадцать метров по коридору, то и дело присаживаясь на скамейку.