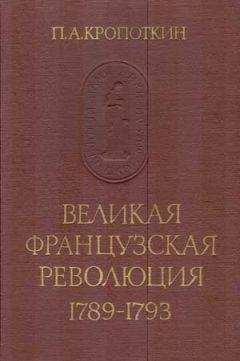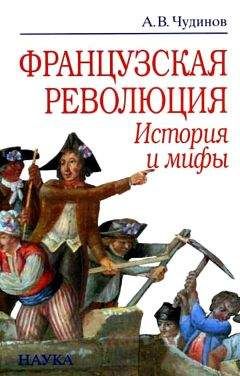Томас Карлейль - Французская революция, Гильотина
В эгоизме и в скудости ума нет недостатка ни с той, ни с другой стороны, особенно же со стороны жирондистов, у которых инстинкт самосохранения, слишком сильно развившийся благодаря обстоятельствам, играет весьма печальную роль и у которых изредка проявляется даже известная хитрость, доходящая до уверток и обмана. Это люди искусные в адвокатском словопрении. Их прозвали иезуитами революции3, но это слишком жестокое название. Следует также признать, что эта грубая, шумливая Гора сознает, к чему стремится революция, чего красноречивые жирондисты совершенно не сознают. Для того ли совершалась революция, для того ли сражались французы с миром в течение четырех трудных лет, чтобы осуществилась какая-то формула, чтобы общество сделалось методическим, доказуемым логикой и исчезло бы только старое дворянство с его притязаниями? Или она должна была принести луч света и облегчение 25 миллионам, сидевшим в потемках и обремененным налогами, пока они не поднялись с пиками в руках? По крайней мере разве нельзя было думать, что она принесет им хотя бы хлеб для пропитания? И на Горе, тут и там, у Друга Народа Марата, даже у зеленого Неподкупного, как он вообще ни сух и ни формалистичен, имеется искреннее сознание этого последнего факта, а без этого сознания всякие другие сознания представляют здесь ничто, и изысканнейшее красноречие не более как медь звенящая и кимвал[50] бряцающий. С другой стороны, жирондисты относятся очень холодно, очень покровительственно и несерьезно к "нашим более бедным братьям" - к этим братьям, которых часто называют собирательным именем "массы", как будто они не люди, а кучи горючего, взрывчатого материала для снесения Бастилии. По совести говоря, разве революционер такого сорта не заблуждение? Это существо, не признанное ни природой, ни искусством, заслуживающее только быть уничтоженным и исчезнуть! Несомненно, для наших более бедных парижских братьев все это жирондистское покровительство звучит смертью и убийством и тем фальшивее, тем ненавистнее, чем красивее и чем неопровержимо логичнее оно высказывается.
Да, несомненно, добиваясь популярности среди наших более бедных парижских братьев, жирондисту приходится вести трудную игру. Если он хочет склонить на свою сторону почтенных лиц в провинции, он должен напирать на сентябрьские события и тому подобное, стало быть говорить не в пользу Парижа, в котором он живет и ораторствует. Трудно говорить перед такой аудиторией! Поэтому возникает вопрос: не переселиться ли нам из Парижа? Попытка эта делается два раза и даже более. "Если не мы сами, -думает Гюаде, - то по крайней мере наши suppleants могли бы переселиться". Ибо каждый депутат имеет своего suppleant, или заместителя, который занимает его место в случае надобности; не могли ли бы они собраться, скажем, в Бурже, мирном епархиальном городе, или в мирном Берри, в добрых 40 милях отсюда? В этом случае какая польза была бы парижским санкюлотам оскорблять нас, когда наши заместители, к которым мы можем бежать, будут мирно заседать в Бурже? Да, Гюаде думает, что даже съезды избирателей можно было бы созвать вновь и выбрать новый Конвент с новыми мандатами от державного народа; и Лион; Бордо, Руан, Марсель, до сих пор простые провинциальные города, были бы очень рады приветствовать нас в свою очередь и превратиться в своего рода столицы, да, кстати, и поучить этих парижан уму-разуму.
Прекрасные планы, но все они не удаются! Если сегодня под влиянием пылких красноречивых доказательств они утверждаются, то завтра отменяются с криками и страстными рассуждениями. Стало быть, вы, жирондисты, хотите раздробить нас на отдельные республики вроде швейцарцев или ваших американцев, так чтобы не было больше ни метрополии, ни нераздельной французской нации? Ваша департаментская гвардия, по-видимому, к тому и склонялась? Федеративная республика? Федералисты? Мужчины и вяжущие женщины повторяют federaliste, понимая или не понимая значение этого слова, но повторяют его, как обычно в таких случаях, пока смысл его не станет почти магическим и не начнут обозначать им тайну всякой несправедливости; слово "federaliste" становится своего рода заклинанием и Apage-Satanas. Больше того, подумайте, какая "отрава общественного мнения" распространяется в департаментах этими газетами Бриссо, Горса, Карита-Кондорсе. А затем какое еще худшее противоядие преподносят газета Эбера "Pere Duchesne", самая пошлая из когда-либо издававшихся на земле, газета Жоффруа "Rougiff", "подстрекательские листки Марата"! Не раз вследствие поданной жалобы и возникшего волнения постановлялось, что нельзя одновременно быть законодателем и издателем газеты, что нужно выбирать ту или другую функцию. Но и это - что в самом деле мало помогло бы отменяется или обходится и остается только благочестивым пожеланием.
Между тем посмотрите, вы, национальные представители, ведь между друзьями порядка и друзьями свободы всюду царят раздражение и соперничество, заражающие лихорадкой всю Республику! Департаменты, провинциальные города возбуждены против столицы; богатые против бедных, люди в кюлотах против санкюлотов; человек против человека. Из южных городов приходят воззвания почти обвинительного характера, потому что Париж долго подвергался газетной клевете. Бордо с пафосом требует законности и порядочности, подразумевая жирондистов. Марсель, также с пафосом, требует того же. Из Марселя приходят даже два воззвания: одно жирондистское, другое якобинско-санкюлотское. Пылкий Ребекки, заболевший от работы в Конвенте, уступил место своему заместителю и уехал домой, где тоже, при таких раздорах, много работы, от которой можно заболеть.
Лион, город капиталистов и аристократов, находится в еще худшем состоянии, он почти взбунтовался. Городской советник Шалье[51], якобинец, дошел буквально до кинжалов в споре с мэром Нивьер-Шолем, moderatin, одним из умеренных, может быть, аристократических, роялистских или федералистских мэров! Шалье, совершивший паломничество в Париж "посмотреть на Марата и Гору", воспламенился от священной урны, ибо 6 февраля история или молва видела, как он взывал к своим лионским братьям-якобинцам, совершенно трансцендентальным образом, с обнаженным кинжалом в руке; он советовал (говорят) простой сентябрьский способ, так как терпение истощилось и братья-якобинцы должны бы сами, без подсказки, приняться за гильотину! Его можно еще видеть на рисунках: он стоит на столе, вытянув ногу, изогнув корпус, лысый, с грубым, разъяренным лицом пса, покатым лбом, вылезающими из орбит глазами, в мощной правой руке поднятый кинжал или кавалерийский пистолет, как изображают некоторые; внизу, вокруг него, пылают другие собачьи лица; это человек, который вряд ли хорошо кончит! Однако гильотина не была тут же поставлена "на мосту Сен-Клер" или где-нибудь в другом месте, а продолжала ржаветь на своем чердаке. Нивьер-Шоль явился с войсками, бестолково громыхнул пушками, и "девятьсот заключенных" не получили ни щелчка. Вот как беспокоен стал Лион с его громыхающими пушками. Туда немедленно нужно отправить комиссаров Конвента: удастся ли им внести успокоение и оставить гильотину на чердаке?
Наконец, обратите внимание, что при таких безумных раздорах в южных городах и во Франции вообще едва ли предательский класс тайных роялистов не притаился, едва ли он не начеку и не выжидает, готовый напасть в удобную минуту. Вдобавок все еще нет ни хлеба, ни мыла; патриотки распродают сахар по справедливой цене 22 су за фунт! Граждане-представители, было бы поистине очень хорошо, чтобы ваши споры кончились и началось царство полного благополучия.
Глава третья. ПОЛОЖЕНИЕ ОБОСТРЯЕТСЯ
Вообще нельзя сказать, чтобы жирондисты изменяли себе, насколько у них хватает доброй воли. Они усердно бьют в уязвимые места Горы из принципа, а также из иезуитства.
Кроме сентябрьских избиений, которые теперь можно мало использовать разве лишь погорячиться, мы замечаем два больных места, от которых Гора часто страдает, - это Марат и Эгалите. Неопрятный Марат постоянно подвергается нападкам и лично, и за Гору; его представляют Франции как грязное, кровожадное чудовище, подстрекавшее к грабежу лавок, и слава этого дела пусть падает на Гору! Гора не в духе и ропщет: что ей делать с этим "образцом патриотизма", как признавать или как не признавать его? Что касается самого Марата, то он, с его навязчивой идеей, неуязвим для таких вещей; значение Друга Народа даже заметно растет, по мере того как поднимается дружественный ему народ. Теперь уже не кричат, когда он начинает говорить, иногда даже рукоплещут, и это поощрение придает ему уверенность. В тот день, когда жирондисты предложили издать декрет о предании его суду (decreter d'accusation, как они выражаются) за февральскую статью о "повешении одного или двух скупщиков на дверных притолоках"[52], Марат предложил издать "декрет о признании их сумасшедшими" и, сходя по ступенькам трибуны Конвента, произнес в высшей степени непарламентские слова: "Les cochons, les imbeciles" (свиньи, болваны). Он часто выкаркивает едкие сарказмы, потому что у него действительно жесткий, шершавый язык и глубокое презрение к изящной внешности, а один или два раза он даже смеется, "разражается хохотом" (rit aux eclats) над аристократическими замашками и утонченными манерами жирондистов, "этих государственных мужей", с их педантизмом, правдоподобными рассуждениями и трусостью. "Два года, - говорит он, - вы хныкали о нападениях, заговорах и опасностях со стороны Парижа, а ведь не можете показать на себе ни одной царапины". Дантон изредка сердито пробирает его, но Марат остается по-прежнему образцом патриотизма, которого нельзя ни признать, ни отвергнуть!