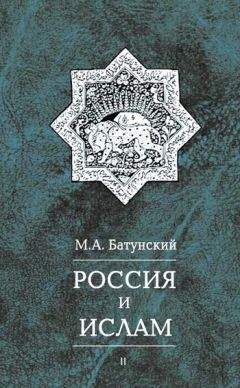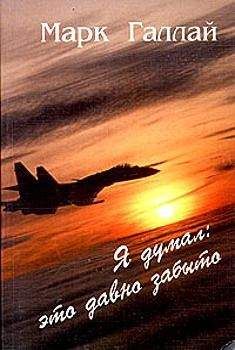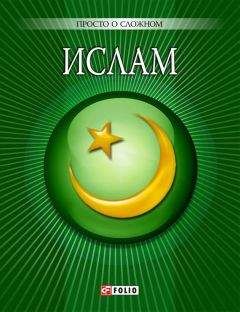Марк Батунский - Россия и ислам. Том 1
И все равно, это еще вовсе не полная «победа западной ориентации»; и потому, что отнюдь не меньшую озабоченность у русских правителей вызывает «зарубежный» – в первую очередь мусульманский – Восток, и потому, что сохраняется сильнейшая политико-идеологическая вовлеченность в «южный круг», и потому, наконец, что громадную трудность все еще являли «свои поганые».
Поэтому-то и не было какой-то канонизированной матрицы208, с весьма ограниченным количеством вводимых в нее параметров и однозначностью демаркационных критериев, – развития русской внешнеполитической деятельности. Ведь всякая абсолютизация норм и правил закрыла бы возможность адекватного познания ситуации и, следовательно, ее регулирования в соответствии с интересами формирования «интегрального национализма»209. Для него же – напомню и о его явном сходстве с тем испанским национализмом же, который выковывался в процессе Реконкисты, – термин «мусульмане» (с которым все чаще, по мере усиления «западного крена» в динамике социокультурной реальности России, стал отождествляться мегатермин – «поганые») по-прежнему осуществлял функции и пространственно-временного и ценностно-смыслового ориентирования210.
При любых – в том числе и весьма дружественных порой (особенно с Османской империей) – отношениях с какой-либо мусульманской державой все, покрываемое термином «ислам», трактовалось как нечто существующее порознь от православнорусского субстрата; оба они рассматривались как внешние по отношению друг к другу феномены, как разные полюса развивающейся человеческой экзистенции211. И все то, что могло бы – пусть и в предельно искаженной форме – восприниматься как указание на какую-либо чисто формальную близость ислама и христианства, становилось органически чуждым средневеково-русской мысли. В этом – причина того, что она не адаптировала тезис об исламе как христианской ереси213.
И наконец, то обстоятельство, что средневеково-русская культура в общем-то не интересовалась личностью Мухаммеда214, можно объяснить приматом в ней суперколлективистского начала, обусловливающего, следовательно, курс на «герметизацию» истории, на представление ее гомогенной и абстрактной, движимой безличными в общем-то (в т. ч. и дьяволом) внешними силами, а вовсе не усилиями отдельных (положительных или отрицательных) личностей.
5. Позднесредневековая русская культура: восприятие ислама в период религиозного осмысления возникающей централизованной монархии как «третьего Рима»
Но было бы неверным отождествлять позднесредневековую русскую социально-культурную организацию и Византию.
Византийское общество в целом являлось все же «сознательно традиционалистским»: оно рассматривало себя как хранителя традиций христианства (включая и ветхозаветное наследие), а равно и классической античности. Между тем ни одно другое средневековое общество – в том числе, скажем, и арабский Халифат – не ставило перед собою в качестве самоцели сохранение культурных традиций216. Эта же характеристика может быть распространена и на Россию конца XV–XVI вв.217 как на расширяющуюся феодальную монархию218 с раннеабсолютистскими219 тенденциями и притязаниями, вследствие этого ставящую во главу угла принцип действия220 и, соответственно, «конструктивно-технологическую», объективно «секуляризаторскую» функцию преобразования реальности221.
Таков общий для всех тогдашних222 «протонационалистических»223 европейских государств (в т. ч., скажем, Испании) настрой, выражавшийся и в бесконечных междоусобных войнах перед лицом, казалось бы, общей для них всех мусульмано-османской опасности, и в столь же неисчислимых и грубых оскорблениях национальных чувств друг друга, причем эта брань в адрес своих же единоверцев ничем не отличалась от той, которой извечно осыпали приверженцев ислама224.
Не следует, однако, упускать при этом из виду ряд специфичных черт зарождавшегося русского национализма, вынужденного неизменно функционировать в рамках православного мировоззрения и поведенческих максим, а также во многом самоопределяться под воздействием организационных особенностей этой конфессии.
В православии клир не так кардинально, как в католицизме, отделен от мирян (причащение под обоими видами для мирян; нет безбрачия немонашествующей части духовенства); отсутствует централизованная организация (национальные церкви вполне автономны по отношению к вселенскому патриарху, авторитет которого и теоретически ниже авторитета соборов); допускается богослужение на национальных языках225. Все это не позволило православию обрести космополитический характер, который свойственен католицизму, и создало на русской почве предпосылки для соединения принципа православия с «русской идеей» – теория «третьего Рима», славянофильство и т. п.
Благодаря религиозному осмыслению возникающей централизованной монархии как «третьего Рима» русское православие приобрело характер мессианистической исключительности226, который оно сохранит и впоследствии («истинное христианство» почти отождествляется с Русской державой, правоверие даже греков227 – а тем более католиков и протестантов – оказывается под подозрением). Не говоря уже о том, что в принципе невозможно было «преобразование ортодоксального православия в духе либерального идеала терпимости свободы мысли, интеллектуального прогресса»228, никогда не было (да и не могло быть) прояснено соотношение между ним и националистическим мессианизмом. Если видеть в православии некий общечеловеческий принцип (что не соответствует историческим судьбам этой религии), то «народность» может иметь значение только в своем отношении к этому принципу. Если же переносить акцент на «народность», то православие – лишь «веры племенной богатство» (Хомяков), т. е. случайный атрибут народности229.
Таким образом (продолжаю этот анализ уже в философской плоскости), православное самосознание пребывает в сложной ситуации: с одной стороны, оно не может быть представлено без конкретно-национального духа, а с другой – должно проявляться вне его, превосходя его, перекрывая его, ибо постоянно должно нацеливаться на божественную сверхреальность. Покидая «национальные» (т. е. «объективные») формы, православное самосознание благодаря доминирующей в нем трансцендентности, благодаря акцентированию божественного начала как того «высшего принципа», того «финального корректива», в соответствии с которым конструируется любое личностное и групповое бытие, становится принципиально неопределимым любой структурой, принципиально не выразимым никаким объектом и, значит, фундаментально не детерминированным.
Напряженность и плюрализм вносил в русскую средневековую общественную систему (тяготевшую к равновесию и однообразию230) конфликт между этим направлением православия, не желающим оторваться от самого себя, «самоэкспроприироваться», децентрализоваться, дабы раствориться в земном существовании, профанизировать свои категориальные модусы (существование во времени и пространстве, существование как отношения с вещами или людьми), – и стремлением поставить мировоззренческий и социальный заряды православия на службу мотивационносмысловой сферы строго очерченного этнического коллектива, обладающего своим упорно консервируемым стилем жизнеотношений и своими тщательно культивируемыми традициями.
Где-то к концу предпетровской эпохи эти вначале явственно расходившиеся линии православия («трансцендирующая» и «прагматизирующаяся») не только сошлись между собой, но и соединились с классическо-националистическим кредо, породив набор специфических для такой комбинации эмоционально-интеллектуальных устремлений в ситуации плюральности и многоосмысленности истин и положений.
Суть дела представляется следующей.
«Русский дух» в силу своей конфессионально-провиденциалистской структуры создает модель «должного бытия», предстающую горизонтом национальной жизнедеятельности. Этот порыв можно назвать «божественной трансценденцией» – божественной потому, что она находится за пределами конкретного, человеческого существования и не несет в себе черт реального поведения. Она – зов высшего бытия, призыв к наиболее полной самореализации как отдельного человека, так и, главное, определенной – русско-православной – общности. Но божественная трансценденция в то же время и национальна, ибо она – творение «национального духа», модель национального бытия. Она трансцендентна поскольку выступает на грани небытия, того, что не существует, а требует существования и отвечает наивысшим национальным устремлениям; она имманентна, поскольку концентрирует в себе все наилучшие свойства «русской души» – «соли мира», благодатнейшего из плодов его развития. Этот плод всегда открыт в сторону священного, всегда готов чутко реагировать на трансцендентное бытие232 (что, в свою очередь, означает первенствующую роль символического, а не научного языка, преобладание эстетического мировидения над дискурсивно-логическим).