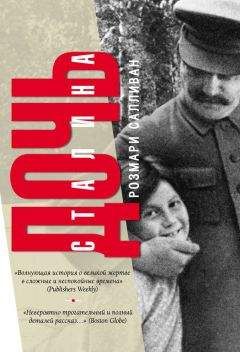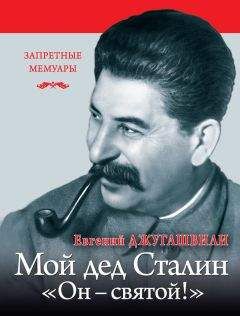Сергей Мельгунов - Красный террор в России. 1918-1923
Для того, чтобы подвести итоги, следовало бы сказать еще о массовых высылках крестьян, идущих вслед за расстрелами, контрибуциями, сожжением и конфискацией имущества при местных восстаниях.
***Когда мы говорим об усмирениях, связанных с крестьянскими восстаниями; когда мы говорим о расстрелах рабочих в Перми[211] или Астрахани, ясно, что здесь уже не может идти речь о каком-то специфическом «классовом терроре» против буржуазии. И действительно, террор распространен был с первых дней своего существования на все классы без исключения и, может быть, главным образом на внеклассовую интеллигенцию.
Так и должно было быть. Задача террора — говорила передовая статья в № 1 «Еженедельника» В.Ч.К. — уничтожение идеологов и руководителей врагов «пролетариата» (читай: врагов советской власти). В приговорах Ч.К. и трибуналов говорилось иногда о снисхождении, которое делалось обниняемому «принимая во внимание его пролетарское происхождение». Но на самом деле это было только вывеской, нужной в видах самой разнузданной демагогии. Конечно, на первые порах эта вывеска обманывала несознательные элементы страны, но скоро, кажется, все уже поняли реальную ценность этой демагогии.
Я думаю, что следователи типа «тов. Трунова», описываемого В. Красновым в его воспоминаниях,[212] были явлением в общем редким и, может быть, только на первых порах, когда интенсивно шла агитация против буржуазии, как таковой. Беседа этого следователя в селе Безопасном, Ставропольской губ. с арестованным сводилась к одной и той же стереотипной фразе: «Покажь руку! Раздеть!» «С узника срывали одежду, толкали к выходу, там подхватывали на штыки и выбрасывали тело в ямы, сохранившие название „чумного база“ после чумной эпидемии рогатого скота». Примем во внимание, что застенок, где орудовал Трунов, был только сельской тюрьмой, правда, в селе большом, — не ясно ли, что прием следователя действительно не более чем ничего не говорящая стереотипная фраза. К той же демагогической фразеологии следует отнести заявление некоего рабочего лефортовского района в Москве Мизикина, на которое впоследствии ссылалась «Правда». При обсуждении в Московском Совете вопроса о прерогативах Ч.К. и тезиса Лациса о ненужности судебного следствия Мизикин заявил: «К чему даже и эти вопросы? (о происхождении, образовании, занятии и пр.). Я пройду к нему на кухню и загляну в горшок: если есть мясо — враг народа! К стенке!» Руководство в жизни этим «пролетарским» принципом означало бы в 1918 г. расстрел всей привилегированной партии коммунистов; «нетрудящийся да не ест»… и мясо в то время, пожалуй, преимущественно находилось в горшке «коммунистических» хозяйств и, быть может, спекулирующей буржуазии.
Никто не поверит Лацису, что террор будто бы совсем не трогал «заблудшихся рабочих и крестьян», как никто не поверит Шкловскому, утверждавшему в № 3 «Еженедельника» Ч.К., что «не было ни одного случая, чтобы это угнетение было направлено против рабочего класса». Когда в Одессе в июле 1919 г. начались протесты против массовых расстрелов,[213] местная губ. Ч.К. издала «приказ», гласивший, что контрреволюционеры распространяют «лживые провокационные слухи о расстреле рабочих»; президиум Ч.К. объявлял, что ею не было расстреляно «ни одного рабочего, ни одного крестьянина» — и тут же делалась оговорка «за исключением явных бандитов и погромщиков». Всем желающим «товарищам-рабочим» предлагалось явиться за получением официальных справок о расстрелянных в Ч.К. Затем шли предупреждения: к лицам, уличенным в распространении лживых провокационных слухов, «будет применено самое суровое наказание, которое допускается существующими законами осадного положения». Едва ли кто пошел после этого за «справками»… Астраханские убийства были исключением только в силу своих небывалых еще размеров: напр. 60 представителей рабочих расстреляно в сентябре 1920 г. в Казани за требование только восьмичасового рабочего дня (!), пересмотра тарифных ставок, высылки свирепствовавших мадьяр и проч.[214] Справедливо говорило воззвание левых с.-р., обращенное в апреле 1919 года к рабочим, с предложением не участвовать в первомайских торжествах: «Коммунистическое правительство за время после октябрьской революции собственноручно расстреляло не одну тысячу трудовых крестьян, солдат, рабочих и моряков».[215] «Тюрьма для буржуазии, товарищеское воздействие для рабочих и крестьян» — гласит надпись в одном официальном учреждении. Тот поистине страшный саратовский овраг, о котором мы уже говорили, одинаково был страшен, «как для буржуазии, так и для рабочих и крестьян, для интеллигенции и для всех политических партий, включая социалистов». Также и концентрационный лагерь в Харькове, где работал Саенко, и названный специально лагерем для «буржуев», был переполнен, — как свидетельствует один из заключенных в нем, — представителями всех сословий и в особенности крестьянами.
Кто определит, сколько пролито крови рабочих и крестьян в дни «красного террора»? Никто и, быть может, никогда. В своей картотеке, относящейся только к 1918 г., я пытался определить социальный состав расстрелянных… По тем немногим данным, которые можно было уловить, у меня получились такие основные рубрики, конечно, очень условные.[216] Интеллигентов — 1286 человек; заложников (профессионал.)[217] — 1026; крестьян — 962; обывателей — 468; неизвестных — 450; преступных элементов (под бандитизм часто, однако, подводились дела, носящие политический характер) — 438; преступления по должности — 187. Слуг — 118; солдат и матросов — 28; буржуазии — 22; священников — 19.
Как ни произвольны все подобные группировки, они опровергают утверждения большевистских вождей и выбивают последний камень из того политического фундамента, который они пытаются подвести под террористическую систему (морального оправдания террору общественная совесть никогда не найдет). Скажем словами Каутского: «это братоубийство, совершаемое исключительно из желания власти». Так должно было быть по неизбежности. Так было и в период французской революции, как в свое время я указывал.[218] Это положение, для меня неоспоримое, вызывает однако наибольшие сомнения. Я уверен, что в будущем мы получим еще много подтверждающих данных. Вот одна лишняя иллюстрация. Один из сидельцев тюрьмы Николаевской Ч.К. пишет в своих показаниях Деникинской комиссии (21-го авг. 1919 г.): «Особенно тяжело было положение рабочих и крестьян, не имевших возможности откупиться: их расстреливали во много раз больше, чем интеллигенции». И в делопроизводстве этой комиссии имеется документ, цифрами иллюстрирующий этот тезис. В докладе представителей николаевского городского самоуправления, участвовавших в комиссии, имеется попытка подвести итоги зарегистрированным расстрелам. Комиссии удалось установить цифру в 115 расстрелянных; цифру явно уменьшенную — говорит комиссия — ибо далеко не все могилы были обнаружены: две могилы за полным разложением трупов оказались необследованными; не обследовано и дно реки. Вместе с тем Ч. К. опубликовывала далеко не все случаи расстрелов; нет сведений и о расстрелах дезертиров. Комиссия могла установить сведения о социальном составе погибших лишь в 73 случаях; она разбила полученные данные на такие три группы:[219] самая преследуемая группа (купцы, домовладельцы, военные, священники, полиция) — 25, из них 17 офицеров, 2) группа трудовой интеллигенции (инженеры, врачи, студенты) — 15, 3) группа рабоче-крестьянская — 33.
Если взять мою рубрикацию 1918 г., то на группу так называемых «буржуев» придется отнести еще меньший процент.219
В последующих этапах террора еще резче выступали эти факты. Тюрьмы полны были рабочих, крестьян, интеллигенции. Ими пополняли и число расстреливаемых.
Можно было бы завести за последний год особую рубрику: «красный террор» против социалистов.
***Только в целях демагогических можно было заявлять, что красный террор является ответом на белый террор, уничтожение «классовых врагов, замышляющих козни против рабочего и крестьянского пролетариата». Может быть, эти призывы, обращенные к красной армии, сделали на первых порах гражданскую войну столь жестокой, столь действительно зверской. Может быть, эта демагогия сопряженная с ложью, развращала некоторые элементы. Власть обращалась к населению с призывом разить врага и доносить о нем. Правда, эти призывы к шпионажу сопровождались одновременно и соответствующими угрозами: «всякое недонесение — гласил приказ[220] председателя чрезвычайного Военно-Рев. Трибунала Донецкого Бассейна Пятакова — будет рассматриваться как преступление, против революции направленное, и караться по всей строгости законов военно-революционного времени». Доношение является гражданским долгом и объявляется добродетелью. «Отныне мы все должны стать агентами Чека» — провозглашал Бухарин. «Нужно следить за каждым контрреволюционером на улицах, в домах, в публичных местах, на железных дорогах, в советских учреждениях, всегда и везде, ловить их, предавать в руки Чека» — писал «левый» коммунист Мясников,[221] убийца вел. кн. Михаила Александровича, впоследствии сам попавший в опалу за свою оппозиционную против Ленина брошюру.[222] «Если каждый из нас станет агентом чеки, если каждый трудящийся будет доносить революции на контрреволюцию, то мы свяжем последнюю по рукам и ногам, то мы усилим себя, обеспечим свою работу». Так должен поступать каждый честный гражданин, это его «святая обязанность». Другими словами, вся коммунистическая партия должна сделаться политической полицией, вся Россия должна превратиться в одну сплошную Чека, где не может быть и намека на независимую и свободную мысль. Так, отделение Ч.К. на Александровской ж. д. в Москве предлагало, напр., объявить всем рабочим, что о всех собраниях они обязаны сообщать заранее в Отдел Чека, откуда будут присылаться представители для присутствия на собраниях, а по окончании собрания протокол должен быть немедленно доставлен в Ч.К.[223]