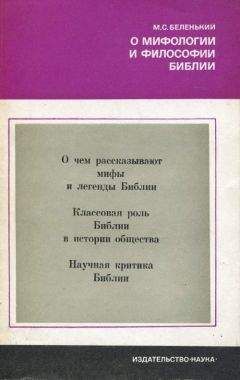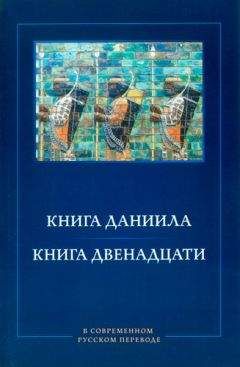Василий Сталин - «От отца не отрекаюсь!» Запрещенные мемуары сына Вождя
В 55-м году, до суда, ко мне приезжал помощник Маленкова Суханов. К тому времени все уже поняли, что я не собираюсь отрекаться от отца. Заставить меня подписать состряпанную фальшивку они не могли. Никто бы не поверил, что я подписал ее по своей воле. Им нужно было другое. Нужно было, чтобы я выступил публично. Чтобы я принародно обвинил отца во всех «преступлениях», которые эти негодяи ему приписали. Когда поняли, что силой им меня не сломить, решили сломить посулами. Ко мне много кто приезжал, сам Маленков тоже наведывался, но никто не искушал меня так умело, как Суханов. Отвели меня в баню, выдали чистый гражданский костюм, привели в незнакомый кабинет, где за столом, накрытым по всем правилам, меня ждал Суханов. Водочки мне налил даже. Я бы с ним пить не стал, понимал, что неспроста, но он провозгласил первый тост за товарища Сталина. Как тут не выпить. Выпили, закусили и начал Суханов меня обольщать. До этого все посетители, включая и Маленкова, только пугали. Признавайся, такой-растакой, а то расстреляем. А я знал, что они меня не расстреляют. Я им был нужен живой. Как Тельман Гитлеру. Тот все надеялся, что Тельман сдастся и выступит в его поддержку, потому и держал в тюрьме больше десяти лет. Расстреляли бы меня – народ сказал бы: «Вот, отца отравили, сына расстреляли». Уверенности в себе врагам мой расстрел не добавил бы. Им нужно было, чтобы я переметнулся бы на их сторону. Суханов же поступил иначе. Сначала посокрушался, что я такой молодой, а жизнь свою загубил. На это я ответил, что жизнь мою я не губил. Это кто-то другой хочет меня погубить. А он мне заявляет, что все еще можно исправить. Вплоть до того, что дело прекратят, меня выпустят, восстановят в звании, работу дадут. От меня требуется только одно – осудить «преступления» отца, поддержать Хрущева с Маленковым. «Будет съезд по этому вопросу, и на нем вы должны выступить», – сказал Суханов. И добавил, что тем, кто признает свои ошибки и исправляет их, Советская власть оказывает снисхождение. Мол, все понимают, что сын за отца не ответчик и так далее. А мне за сговорчивость будет награда. Я для интереса спросил, какую работу они мне собираются дать. Понимал, что в ВВС меня ни за что не вернут, потому что к самолетам меня и близко подпускать нельзя, вдруг улечу за границу. Но наобещать могут все, что угодно. Язык он без костей. «Вас возьмут в отдел пропаганды и агитации ЦК, заместителем заведующего, – ответил Суханов. – Там как раз сейчас кадровые перестановки». Такому предложению я вполне мог поверить. Во всяком случае, выглядело оно логичным. Буду я в ЦК, под неусыпным присмотром, но вроде бы на «хорошей» должности. Когда я отказался, Суханов не закончил разговор. Просто сменил тему. Стал рассказывать о том, как изменился Советский Союз за то время, пока я сидел в тюрьме. Послушать его, так просто райская жизнь началась. Я ему не верил, и правильно делал. После освобождения я первым делом прошелся по магазинам. Впечатление было совсем не то, что в 53-м. Товаров поубавилось, очередей много. Десять лет назад было лучше. Как с продуктами, так и с промтоварами. Отец при его огромной занятости находил время для того, чтобы присматривать за торговлей. Не только в Москве, но и по всей стране. Отец стремился к тому, чтобы трудящиеся ни в чем не испытывали бы недостатка. При отце советские рабочие не бунтовали, и солдатам не приходилось в них стрелять[202]. Люди, которые чувствуют заботу о себе, бунтовать не станут. Трудности были и при отце. Но они были оправданными, объективными. Трудности были обусловлены текущим моментом, а не чьим-то разгильдяйством и пренебрежением к людям. Люди все понимают. «Человека обмануть можно, народ нельзя», – говорил отец.
Возражать Суханову я не стал. Понимал, что он еще не все сказал, и ждал, когда он снова заговорит о деле. Соглашаться на посулы я не собирался, просто было любопытно, что он еще скажет. Суханов долго заливался соловьем. Когда закончил, насупился и сказал, что из-за моего упрямства могу пострадать не только я, но и мои дети. Я опешил от такой подлости – при чем тут дети? Но сказал, что решения своего не изменю, потому что тогда своим детям в глаза смотреть не смогу. Суханов поморщился и сказал, что при таком упорстве я из тюрьмы никогда не выйду. На том разговор и закончился. Больше меня никто не уговаривал. Осудили, дали восемь лет и сделали вид, что забыли обо мне. Но я знал, что никто обо мне не забыл. Так оно и вышло. А про Суханова я на днях узнал, что его осудили за присвоение облигаций, изъятых при обыске у Берии[203]. Не грози другому тюрьмой, сам туда попадешь. Думаю, что ему, такому холеному да вальяжному, на нарах пришлось несладко.
Возвращаюсь к вопросу об инициативе. В тюрьме я никакой инициативы не проявлял. В каком-то смысле можно сказать, что сидел сложа руки, хотя на самом деле работал. Поняв, что участь моя решена в Кремле и не зависит ни от моих показаний, ни от моего поведения, я решил набраться терпения и ждать. Любая инициатива, проявленная в то время, обернулась бы против меня. Да и что я мог сделать? Объявить голодовку? Кормили бы насильно через шланг. Да и глупость это, а никакой не протест. Истерика. Отец рассказывал, что говорил Камо: «В тюрьме надо хорошо кушать, чтобы силы были убежать, а не голодать». О голодовке, как и о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, у меня и мыслей не было. Это не по-коммунистически, не по-Сталински, не по-мужски. «Жди, Василий, – сказал я себе. – Наберись терпения и жди. Твое время придет».
Я верил, что мое время придет. Выстоять мне помогали воспоминания. Воспоминания об отце, воспоминания о моих любимых женщинах и детях, о моих товарищах, обо всем, что осталось по ту сторону забора. Вдохновившись рассказами отца, я подумывал о побеге. Но шанса на побег у меня не было. Стерегли меня все эти годы очень бдительно. Побоялись отправить в лагерь, держали во Владимирском централе. Никакой инициативы не хватило бы для того, чтобы убежать оттуда при таком надзоре, какой был за мной. Да и опыта нахождения на нелегальном положении у меня не было. Если бы даже удалось убежать, то очень скоро меня взяли бы. Угадать, куда бы я в итоге явился, было несложно[204]. Выбора у меня не было. Границу с моей ногой не перейти, да и охраняются границы хорошо. Угнать самолет мне бы тоже не удалось. Так что вычислить мой маршрут после побега не составляло труда. Нельзя было считать, что у меня есть даже маленький шанс. Поэтому я ждал. Работа тоже помогала. За работой время идет быстрее. Работа и воспоминания. После суда стало полегче. Меня оставили в покое. Не таскали на допросы и очные ставки. Началась размеренная жизнь. Если существование в тюрьме можно назвать «жизнью». Говоря «в тюрьме», я имею в виду неволю вообще. Недолгое время, проведенное в госпитале, тоже было тюрьмой, потому что лежал я в одиночке и ко мне, кроме медиков, никого не пускали[205]. В палате постоянно присутствовал дежурный. Что бы я ни делал и что бы со мной ни делали, дежурный не отворачивался – наблюдал. Но тем не менее некоторые медики к своим обычным словам ухитрялись добавить шепотом что-то ободряющее или полезное. Одна из сестричек сказала, что ее отец служил у меня в дивизии и передает мне привет. Другая шепнула мне, что меня решено «выписать» раньше, чем это сказал врач. Она, как я догадался, намекала на то, чтобы я пожаловался на ухудшение самочувствия и тем самым продлил бы свое пребывание в госпитале. Но я так делать не стал. Такое притворство не в моих привычках. К тому же мне хотелось как можно скорее покинуть госпиталь. Невыносимо было слышать шум вольной жизни. Палату мою полностью изолировали от отделения, но звуки сюда все равно доносились. Эти звуки будоражили душу и искушали убежать, хотя я понимал, что убежать не удастся. Охрана моя была организована хорошо. Один человек в палате, как минимум двое за дверью, под окном, несмотря на то что на нем была решетка, тоже кто-то ходил. Думаю, что выходы из отделения и из корпуса тоже были перекрыты. Медсестра однажды сказала дежурному не помню уже по какому поводу: «У нас сейчас здоровых больше, чем больных». «У нас» – это в отделении. Надо было понимать так, что охраны моей было больше, чем больных. Примерно так оно и было, с учетом того, что и смена находилась рядом. Дежурного в палате сменяли каждые восемь часов. Если ему надо было выйти, он подзывал кого-то снаружи на замену. Лежать было скучно, газет мне не давали, радио слушать не разрешали. Приносили книги из госпитальной библиотеки, но все не то, что я просил. Попросил Горького, принесли Некрасова. Попросил «Разгром» Фадеева, принесли пьесы Островского. Непонятно – нарочно издевались или просто те книги, что я просил, были на руках и мне вместо них приносили что придется. От скуки я пытался завести разговор с охранниками, но на такой важный пост ставили хорошо подготовленные кадры. Охранники молчали как рыбы и жестов никаких не делали. Вообще никак не реагировали на мои слова. Очень неприятное состояние, когда ты пытаешься завязать разговор, а тебе не отвечают. Я быстро бросил это занятие. А то еще они могли подумать, что я перед ними заискиваю, пытаюсь зачем-то добиться их расположения. Должен сказать, что, за исключением некоторых следователей, все, с кем я имел дело в заключении, обращались со мной уважительно. У многих и сочувствие во взглядах проглядывало. Люди понимали, за какую «вину» я арестован. Они все понимали и все помнили. Можно оклеветать товарища Сталина с высокой трибуны, с трибуны съезда партии, но нельзя стереть народную память. Очень человечным показал себя начальник Владимирской тюрьмы[206] полковник Дедин[207]. Он распорядился, чтобы в моей камере покрыли пол досками, для тепла. Кроме тепла они долго радовали меня моим любимым запахом свежего дерева. В тюрьме начинаешь ценить то, на что на воле не обращал внимания, воспринимал как данность. Дедин поступил так по своему желанию, без какой-либо просьбы с моей стороны. Я и не думал, что такое возможно. Все проверяющие, которые ко мне приезжали, хмыкали при виде дощатого пола, но никаких мер по этому поводу не принимали. Этот пол был не моей «привилегией», а проявлением хорошего отношения ко мне со стороны тюремной администрации. Причем проявлением бескорыстным, потому, что у администрации не было никакой заинтересованности во мне. Они бы, конечно, предпочли, чтобы я отбывал свое «наказание» в каком-то другом месте, но, коль уж меня отправили к ним, обращались со мной хорошо. Заместитель Дедина по оперативной работе Давид Иванович Крот разрешил мне заказать с воли инструменты для слесарной работы. Он понимал, что мне надо чем-то себя занять. Опять же, польза от меня была. Скажу без ложной скромности, что я неплохой слесарь. А в таком большом хозяйстве, как Владимирская тюрьма, работа для слесаря всегда найдется. Слесарил я с огромным удовольствием. Если человек по своей натуре технарь, как я, то слесарное дело непременно придется ему по душе. Слесарному и токарному делу я научился еще в юности. Столярить тоже могу, но не особо люблю. Люблю только запах стружки, свежего дерева. А так рубанку предпочитаю напильник. Я же Сталин.