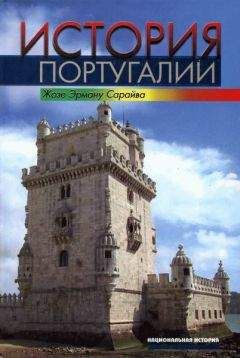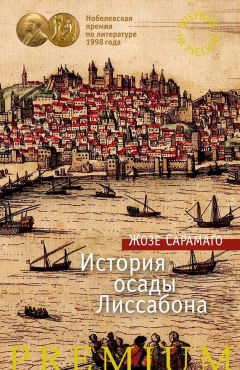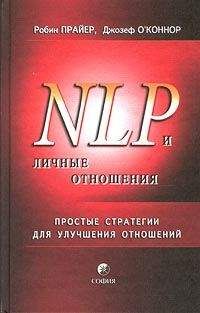Михаэль Вик - Закат над Кенигсбергом
В октябре 1944 года русские заняли Мемельский край и взяли в кольцо дислоцированные в Курляндии дивизии. Положение становилось все более критическим, и после ожесточенных боев сдавался один город за другим. Кенигсберг все более походил на прифронтовой город, на военный лагерь. Сводка вермахта от 19 октября 1944 года сообщала:
Бои на восточнопрусской границе между Зудауеном и Ширвиндтом продолжаются с нарастающей силой. Эйдткау потерян, но наши войска, мужественно сражаясь, предотвратили задуманный русскими прорыв. К настоящему времени за три дня сражений уничтожено 250 вражеских танков.
От 23 октября:
Большевикам удалось глубоко вклиниться в нашу оборону между Зудауеном и Гольдапом. После тяжелых уличных боев Гольдап оказался в руках противника. В тылу у прорвавшихся русских, южнее Гумбиннена, пехотинцы перерезали транспортную магистраль. Попытки большевиков прорваться по обе стороны от Эбенроде захлебнулись в крови. К настоящему времени в этой зоне военных действий в ходе семидневных боев подбито или захвачено 616 вражеских танков. Атаки русских на Мемельском плацдарме оказались безуспешны.
Эти сводки ясно свидетельствуют, что штурм Восточной Пруссии шел полным ходом. Многими овладели предчувствия беды, а слухи усиливали обеспокоенность.
Однажды в конце октября или в начале ноября господин Мендельсон с таинственным видом берет меня за руку и говорит: «У тебя ведь хороший слух. Пойдем-ка наверх, я тебе кое-что покажу!» Поднимаемся на верхний этаж, он распахивает окно, выходящее на восток, и возбужденно шепчет: «Вслушайся как следует! Слышишь?» Приходится сильно напрячь слух, чтобы услышать, как далеко-далеко что-то безостановочно гремит и рокочет, словно грозовые раскаты. Очень тихие, но зловещие. Я ломаю себе голову, что бы это могло быть. Такая гроза да при ясном небе — дело немыслимое. К тому же гром, кажется, вовсе не прекращается. «Это шум сражения. Пока еще очень далекий, но отчетливый. Ура, русские идут!»
Об этом «ура» я еще не раз с горечью вспомню. Потом никому и в голову не придет кричать «ура», а господин Мендельсон до вступления русских в город не доживет.
Конечно, в то время мы возлагали на них большие надежды. Их приход казался единственной возможностью избавиться от Гитлера. Всякий раз, когда у меня было время, я подбегал к окну, чтобы прислушаться к этому зловещему рокоту. Мне постоянно требовалось удостовериться в том, что это не ошибка. Напряженно вслушивался я в каждое изменение издалека доносившихся раскатов и волновался. То мне казалось, что шум битвы слышится ближе, то — что он опять удаляется, а потом вовсе исчезает. И снова — надежда.
Заметно изменилось поведение наших мучителей, по крайней мере некоторых из них. Господин Тойбер стал приветливее, руководитель местной нацистской ячейки Рогалли — неувереннее. Их страх усиливался, это отчетливо ощущалось. Русские были уже под Гумбинненом и даже под Инстербургом. Велись ожесточенные бои. Война была перенесена на немецкую территорию — вопреки всем до сих пор звучавшим воинственным лозунгам, исполненным высокомерной уверенности в победе. Росло замешательство, многих охватывали сомнения. Разгром близился.
Тогда же в Варшаве вспыхнуло восстание польской национальной «Армии Крайовы». Высадившись во Франции, англичане и американцы добрались до немецкой границы и заняли Аахен. Отныне и Италия стала противником Германии. Войну ей объявляют и Румыния с Болгарией. Капитулирует Финляндия, Венгрия заключает перемирие, и обе продолжают войну на стороне антигитлеровской коалиции. Болтовне Геббельса о чудо-оружии, способном переломить ход войны, мало кто верит. Мощь и превосходство многочисленных противников были слишком очевидны.
Гитлер сформировал ополчение, поставив под ружье стариков и детей, но они, разумеется, не могли предотвратить надвигавшейся катастрофы. Несмотря на общее положение, его преступные приказы продолжали выполняться, что объяснялось, по-видимому, всеобщим страхом. Страхом перед расплатой, ибо многие позволили втянуть себя в эту авантюру и несли свою долю ответственности. Страхом перед безжалостным и всепроникающим контролем детально отлаженного партийно-полицейского аппарата. Страхом перед судопроизводством, которое беспощадно отправляло на казнь и даже выражение сомнений объявляло государственною изменою. Страхом перед вражеской местью. Для предотвращения капитуляции генералов была введена семейная ответственность: их женам и детям грозила смертная казнь. Генералы должны были жертвовать собой во имя спасения своих солдат. Встречалось и такое. И все же нужно сказать, что именно недостаток гражданского мужества в 1933 году стал причиною того, что Гитлер постоянно попирал закон, а ныне тот же недостаток гражданского мужества препятствовал тому, чтобы положить конец бессмысленным смертям и разрушениям. Конечно, гражданское мужество проявляют редко, если это грозит личному благополучию. И еще реже, если на карту ставится собственная жизнь или жизнь близких. Попытка освобождения, предпринятая 20 июля графом Штауффенбергом, и другие смелые акции многочисленных одиночек не могут сегодня служить алиби для всех остальных, якобы тоже наделенных гражданским мужеством, — уж больно велико было число офицеров и чиновников, которые, хоть и не признавали Гитлера с его аппаратом уничтожения, прямо или косвенно служили ему.
Осада Кенигсберга
Семья Штоков возобновила общение с нами. Были даже нанесены осторожные визиты. Надежда на то, что скоро все кончится, объединила нас и придала смелости. Я слушал, как Уте играет на фортепьяно, и сам пользовался свободной минутой для занятий скрипкой. Как контрастировали звуки музыки с постоянным и все усиливающимся грохотом сражений! Непрекращающимся его делали тысячи больших и маленьких взрывов, а это означало ведь и бесчисленное множество убитых и раненых ежедневно и ежечасно. В полной неопределенности от того, что готовит будущее, каждый трудился с возрастающим возбуждением. До сих пор не вышло никаких распоряжений и не предпринималось никаких приготовлений к эвакуации гражданского населения. Напротив, складывалось впечатление, что каждому еще сунут в руки оружие, чтобы продлить жизнь виновникам происходящего.
Мое здоровье ухудшалось, особенно после того как на Рождество 1944 года забили нашего «балконного» кролика. Для чего я его, собственно, и кормил. Убил кролика наш сосед Норра, и я видел, как тушку подвесили за задние лапки, ободрали и выпотрошили. Смотреть на это стоило больших усилий. Конечно, я понимал: чтобы жить, нужно есть, но трудно было представить себе, что от всей этой истории я заболею. Рождественское жаркое оправдало всеобщие ожидания, исключая мои. После того как я съел кусок мяса своего любимого кролика, мне стало плохо. Меня вырвало. Поправиться же я, как ни странно, не смог: все пришло в расстройство — и желудок, и, по-видимому, душа. Столь необходимые мне силы таяли с каждым днем — и это теперь, когда, казалось, терпеть осталось совсем недолго. Знакомый врач, обследовав меня, выразил озабоченность моим общим состоянием. Истощение, переутомление сердца и легких, необходимость отдыха без отлагательств — таков был его диагноз. Не самые лучшие предпосылки для наступавших тяжелых времен.
По пути на фабрику мне все чаще попадались на глаза беженцы из тех районов Восточной Пруссии, что оказались под непосредственной угрозой. По обочинам маршевым порядком, соблюдая безопасную, в десять шагов, дистанцию, следовали солдаты, облаченные в белые маскхалаты, чтобы слиться с заснеженным ландшафтом. Все больше для перевозок использовали гужевой транспорт; из-за нехватки бензина ездили на грузовиках с дровяным карбюратором. Тяжелое вооружение встречалось редко. «Сарафанное радио» работало вовсю, так что и дня не проходило без новых слухов. Рассказывали невероятные истории о зверствах русских солдат в первых захваченных немецких городах, и вскоре нам пришлось на себе испытать эти ужасы.
Теперь гремело и грохотало отовсюду: в конце января 1945 года Кенигсберг был окружен. Воздушных тревог больше не объявляли, поскольку русские самолеты и так день и ночь беспрепятственно кружили над городом. Немецкой же авиации не было видно вовсе. Страх населения возрастал. Всех привлекли к строительству противотанковых заграждений. (В решающий момент они окажутся бесполезными.) На подступах к городу под обстрелом рыли бесконечные ходы сообщения, возводили небольшие оборонительные сооружения, укрепляли перекрестки. На каждом углу встречались патрули, охотившиеся на дезертиров. Жили мы теперь в подвале, хотя и в квартире бывали часто. Русская артиллерия уже начала, пока нерегулярно, обстреливать город. Повсюду мог неожиданно разорваться снаряд. Опасны были и осколки. Вспоминаю, как однажды в подвал заглянул господин Норра и рассказал, как неподалеку от него разорвался снаряд, задел его взрывной волной и напугал, а когда через некоторое время понадобился бумажник и Норра достал его из кармана пиджака, тот оказался до половины пробит маленьким зазубренным осколком. Бумажник спас жизнь, без него осколок попал бы в сердце.