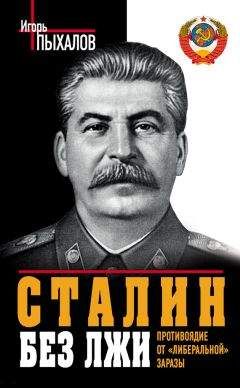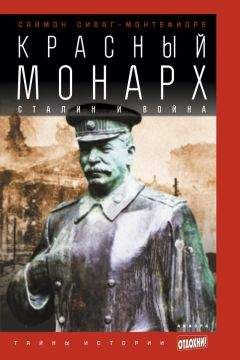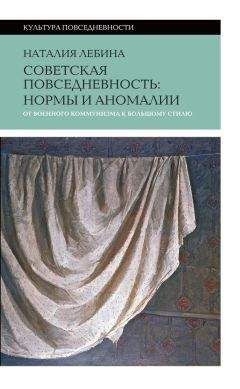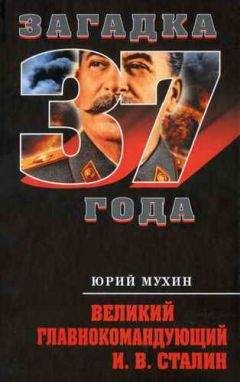Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.
Самым распространенным способом самоубийства в 20–30-е гг. стало повешение: веревки были пока доступны. Кроме того, это наиболее «надежный» путь свести счеты с жизнью, что свидетельствует о серьезности намерения убить себя, а не о следовании моде или попытках шантажа с помощью суицида. Данные о способах самоумерщвления являются более ярким доказательством определенной деформации форм девиантного поведения в советских условиях, нежели показатели количества самоубийств. Малоценными с этой точки зрения являются и данные о причинах суицида. Записки самоубийц немногочисленны — по данным 1925 г., в Москве и Ленинграде из 581 чел., добровольно ушедших из жизни, мотивировали свой поступок лишь 121 чел.[191] Кроме того, встречающиеся в предсмертных письмах формулировки весьма расплывчаты, четко сказать, что стало мотивом «душевного расстройства», а что поводом для развития «отвращения к жизни», — практически невозможно. Не случайно А. Камю в знаменитом «Мифе о Сизифе» писал: «Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца, подобно Великому деянию алхимиков». Заостренная персонифицированность причин суицида заставляет в первую очередь анализировать его как относительно массовое, статистически устойчивое явление, во многом объясняемое отношениями индивида и общества.
Советское общество 20–30-х гг. до сих пор еще довольно часто называют тоталитарным. Такому общественному строю должны соответствовать и насильственно создаваемые им «коммунальные тела». Они, в свою очередь, по словам философа М. Рыклина, «настолько эксцентричны и несамотождественны, что логически могут признаваться только в вине других…»[192]. Тоталитарный вариант идентификации исключает присутствие элементов ретритизма в поведении отдельных людей. Однако факты суицида во многом опровергают идею о полном господстве тоталитарного типа личности в советском обществе 20–30-х гг. В социальной действительности тех лет существовали подмеченные современными российскими девиантологами Я. Гилинским и В. Афанасьевым значимые для любого индивидуального самоубийства факторы — ситуация длительной дезадаптации и наличие конфликтов, порожденные резкой сменой социальных приоритетов. Нельзя отрицать и существование «культурологической подсказки» — не санкционированное властными и идеологическими структурами, но реально зафиксированное и в дореволюционной России на ментальном уровне признание возможности лишения себя жизни как способа разрешения жизненных коллизий[193]. Это дает возможность утверждать, что и в советском обществе самоубийства являлись традиционной патологией. Но ее нравственная оценка обретала ярко выраженные политические черты.
Любопытно отметить, что свойственная первым мероприятиям большевистского правительства антифеодальная направленность отразилась и на отношении к самоубийствам. Произошедшие изменения законодательства, в частности, отмена всех правовых актов царской России, невольно либерализировали властные представления о статусе суицидента. С юридической точки зрения, советский строй на первых порах был более терпим к людям, добровольно ушедшим из жизни, что можно истолковать как попытку внедрения в ментальность населения более демократических представлений о степени свободы личности. Однако скорее всего терпимость властных структур по отношению к фактам самоубийства носила антиклерикальный характер.
Впервые большевики зафиксировали свое отношение к феномену суицида в момент возвращения российского общества к принципам нормального существования, то есть отхода от чрезвычайных мер эпохи военного коммунизма. В октябре 1921 г. Центральное статистическое управление и народный комиссариат внутренних дел заключили соглашение, предписывающее всем учреждениям, регистрирующим случаи смерти, с 1 января 1922 г. составлять специальный статистический листок на каждый случай самоубийства. В этом же документе отмечалось «важное значение постановки вопроса о самоубийствах в целях изучения этого ненормального явления личной и общественной жизни» и предписывалось «составлять статистические листки о самоубийствах точно и полностью, не оставляя ни одного пункта без ответа»[194]. Образец «Опросного листа о самоубийце», подготовленного отделом моральной статистики ЦСУ. появился в Петрограде в марте 1922 г. Одновременно из Москвы пришла и специальная инструкция по заполнению данного документа. Составители его считали необходимым по возможности выяснить мотивы суицида, подчеркивая, что «…следует перечислять все выяснившиеся причины, оговаривая степень вероятности в случае их сомнительности»[195]. Но особое внимание инструкция уделяла заполнению двух пунктов опросного листка — «11. Постоянная профессия до Октябрьской революции» и «12. Занятие и ремесло во время совершения самоубийства». Выделение общественно-профессионального статуса самоубийцы как основополагающего момента для интерпретации добровольного лишения себя жизни можно истолковывать двояко. С одной стороны, большинство специалистов, привлеченных к изучению суицидального поведения, находились под влиянием концепции Дюркгейма, который склонялся к сугубо социальному толкованию самоубийств. С другой стороны, сказывалось укреплявшаяся в условиях новой государственности тенденция объяснения разнообразного рода аномалий лишь влиянием «капиталистического прошлого». Однако трактовка причин суицидов стала меняться с укреплением позиций НЭПа.
Отдел моральной статистики ЦСУ и входивший в него сектор социальных аномалий зафиксировали рост числа самоубийств среди членов РКП(б). Пленум ЦКК, состоявшийся в октябре 1924 г., заслушал специальный доклад Ем. Ярославского «О партэтике». Видный партийный публицист заявил: «Кончают самоубийством люди усталые, ослабленные. Но нет общей причины для всех. Каждый отдельный случай приходиться разбирать индивидуально…»[196]. Такое довольно нейтральное умозаключение Ярославский позволил себе потому, что речь шла пока об экстраординарных ситуациях, а не о тенденции. Незадолго до пленума ЦКК свел счеты с жизнью Е. Глазман, бывший секретарь Троцкого. Но в 1925 г. среди умерших большевиков суициденты составили 14 %[197]. Для сравнения стоит указать, что в это же время самоубийство как причина смерти в Ленинграде составляло менее 1 %. Элементы ретритизма в самой политически активной социальной среде советского общества насторожили руководство партии большевиков. Оценка случаев самоубийства стала более жесткой и политизированной.
На XXII ленинградской губернской конференции ВКП(б) в декабре 1925 г. Ярославский заявил, что самоубийцами являются лишь «слабонервные, слабохарактерные, изверившиеся в мощь и силу партии» личности, и пик суицидальных проявлений среди членов ВКП(б) совпал с «периодом некоторых колебаний в партии, некоторых шатаний, идейного разброда мыслей…»[198]. Ярославский невольно оказался на позициях Дюркгейма, разделявшего все самоубийства на эгоистические и альтруистические. Первый тип суицида характерен для времени ослабления сплоченности людей и потери ими смысла в жизни. Усиление внутрипартийной дисциплины формально могло приостановить появление фактов эгоистических самоубийств, но не воздействовало бы на суицид альтруистического характера, когда человек не видит возможности существовать вне данной, чрезмерно отрегулированной социальной жизни. А такая форма аномалии тоже была достаточно характерна для формирующегося нового советского социума Плюрализм социальных практик короткой эпохи нэпа стал явно сокращаться уже в конце 1925–1926 г. Власть начала испытывать острую необходимость в послушных социальных телах. Общественная жизнь приобретала более жесткие социальные, правовые и нравственные формы, вписаться в которые дано было далеко не каждому человеку. Дезадаптация и конфликтность ощущались более остро, чем в начале 20-х гг., о чем свидетельствует и рост количества самоубийств. Как любая система, прочно сросшаяся с институтами идеологического воздействия, будь то церковь или ее аналоги в виде партийных органов, социалистическое государство не могло остаться равнодушным к причинам, толкавшим людей на добровольный уход из жизни.
Летом 1926 г. Ленсовет совместно с комсомолом провел специальное обследование случаев самоубийств среди молодежи. Данные обследования красноречиво свидетельствуют о том, что в любом обществе существует тип личности, которая, независимо от социального происхождения и общественной ситуации, склонна к уходу от стрессовых ситуаций посредством собственной смерти. В документах приведены факты самоубийств «из-за любви», «из-за постыдной болезни», «ссоры с родителями» и т. д. Однако представители советской власти и комсомола склонны были сделать сугубо политизированный вывод: средний самоубийца является «законченным типом, интеллигентом-нытиком, склонным к самобичеванию»[199]. Общую благополучную с точки зрения социальной иерархии советского общества картину нарушали факты суицида в рабочей среде. Однако организации, проводившие обследование, позволили себе сделать следующий вывод: «Отдельные редкие случаи самоубийств показывают, что социальных корней у коренной рабочей молодежи они не имеют. Эти случаи были у отдельных членов союза (комсомола. — Н. Л.), пришедших только недавно на фабрику, там еще не переварившихся»[200]. «Переваривание» в данном случае можно толковать как спешную унификацию личности, полное слияние ее с коллективом.