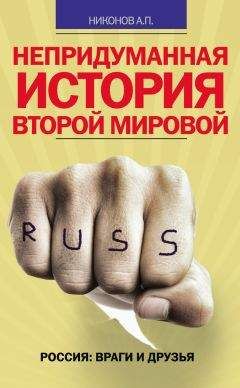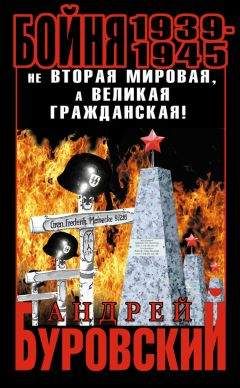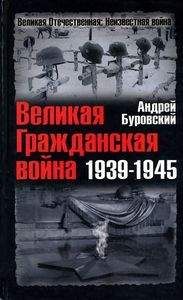От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
В начале октября 1945 года состоялся VII съезд Компартии Греции, который отверг позицию тех членов ЦК, которые считали возможным прийти к власти мирным путем. Как заявил лидер партии Захариадис, в греческой политике всегда «существовал и существует английский, а точнее англосаксонский фактор», который никогда не даст коммунистам шанса. Поэтому в середине февраля 1946 года II Пленум ЦК КПГ принял решение отказаться от участия в парламентских выборах и начать вооруженную борьбу с «монархо-фашистами, сидящими на штыках британских оккупационных войск». Это решение базировалось на уверенности в том, что Москва, Белград, София и Тирана окажут греческим коммунистам серьезную поддержку в борьбе с режимом регента архиепископа Дамаскина. В марте 1946 года Захариадис встретился в Белграде с Тито, а затем отправился в Крым на встречу со Сталиным. И югославский, и советский лидеры высказались в поддержку позиции КПГ.
Выборы в марте 1946 года, которые компартия и другие левые партии бойкотировали, принесли предсказуемую победу правым, положив начало череде слабых марионеточных правительств. Они продолжат аресты членов Национально-освободительного фронта, многих из которых замучают в печально известных островных тюрьмах и лагерях.
Помощь Москвы и Белграда позволила греческим повстанцам активизировать свою борьбу против нового правительства короля Георга II, вернувшегося на престол в сентябре 1946 года. Греческие левые ушли в горы и начали гражданскую войну и против правительства, и против англичан. В конце октября было объявлено о создании Демократической армии Греции, которую возглавил генерал Маркое Вафиадис. Югославия поддержала ее оружием. В феврале 1947 года III Пленум ЦК КПГ принял секретный план «Озера», который предусматривал освобождение от англичан и монархистов всей Македонии и Фракии и создание своего государства со столицей в Салониках.
Англичане, проигрывая, бросятся за помощью к США. Так появится в 1947 году «Доктрина Трумэна», а Греция станет первой страной, захваченной США во имя борьбы с мировым коммунизмом. Трумэн назовет коррумпированный правый режим в Афинах «демократическим», а его оппонентов «террористами», когда американские войска с тяжелой боевой техникой высадятся на берега Греции.
Все теснее западные державы приближали к себе Испанию и Португалию. В борьбе с коммунизмом оба диктатора Пиренейского полуострова рассматривались как союзники, а потому получили хоть молчаливую, но поддержку Вашингтона и Лондона.
В Испании позиции Франко только укрепились. Артуро Перес-Реверте подтверждал: «Фокус был в том, что после поражения, воспользовавшись тем обстоятельством, что сталинский Советский Союз уже явил миру свой зловещий лик, Франко потихонечку, осторожненько стал подгребать к победителям, типа давайте укреплять бастион Запада. Честно говоря, именно это и позволило ему выжить в первые послевоенные годы».
Однако «внешние приличия» со стороны Запада будут соблюдены. Ведущие страны понизят ранг своего представительства в Испании с послов до посланников. Испания не получит помощи по плану Маршалла. От Франко потребуют уступок. Он проведет референдум и слегка ослабит железную хватку режима.
Португалия попыталась вписаться в англо-саксонские представления о приличной европейской стране. Диктатор Салазар пошел на ряд косметических коррекций своего режима. В 1945 году Полиция надзора и защиты государства (ПВДЕ) была переименована в Международную полицию защиты государства (ПИДЕ). Секретариат национальной пропаганды стал Национальным секретариатом информации, народной культуры и туризма. Персонал, офисные здания и функции практически не поменялись.
Секретные операции против политической оппозиции и коммунистов получили новый импульс. Они проводились сразу несколькими спецслужбами, главная роль среди который принадлежала все той же ПИДЕ.
В октябре 1945 года Салазар объявил, что намерен провести в ноябре досрочные парламентские выборы, отметив, что во Второй мировой войне победили «знамена демократии», а в Португалии тоже существует «органическая демократия».
На период избирательной кампании разрешили оппозиционные митинги, была позволена агитация за всех кандидатов. В это время на базе подпольного Движения национального антифашистского единства, которым руководила компартия, было создано легальное Движение демократического единства. Оно начало проводить митинги, выпустило меморандум с требованием отсрочки выборов, изменения избирательного закона, легализации политических партий и классовых профсоюзов.
Для Салазара, не ожидавшего такого поворота событий, это стало сигналом к сворачиванию эксперимента с демократией. Вернулась цензура, пошли увольнения госслужащих, подписавших меморандум, митинги оппозиции разгонялись.
Движение демократического единства заявило об отказе от участия в выборах и призвало своих сторонников бойкотировать голосование. В результате все 120 депутатских мест вновь достались салазаровскому Национальному союзу.
В дальнейшем подобная логика событий повторялась не раз. Накануне выборов оппозиции предоставлялась возможность ведения предвыборной кампании. По мере приближения дня голосования государственный и репрессивный аппараты ужесточали условия для предвыборной кампании. Оппозиционеры снимали свои кандидатуры, и все места получали кандидаты от единственной правящей партии.
К удивлению многих, фашистская Португалия в 1949 году окажется даже в числе стран-учредительниц НАТО, а Салазар продолжит единолично править до 1968 года.
Восточная Европа: рулит СССР
Строй «народной демократии» в освобожденных СССР странах Восточной Европы приходил на смену не демократиям, а нацистским режимам. На это обращал внимание Джефри Робертс: «Еще одна проблема послевоенной политики Сталина заключалась в том, что относительно либеральный режим народной демократии, который он хотел установить, почти не находил опоры в политической истории Восточной Европы в виде демократических традиций. Политическая история всех стран Восточной Европы, кроме Чехословакии, в период между двумя мировыми войнами состояла в основном из авторитарного правления, националистической демагогии и репрессий против коммунистов». Заметим, что с началом войны и Чехия стала частью Германии, и Словакия – союзницей Гитлера.
Писатель Илья Эренбург проехался осенью 1945 года по странам Восточной Европы и делился своими впечатлениями: «В различных столицах я видел проекты памятников Красной армии: искусство стремится в бронзе и в камне выразить чувства народов. Много слышал я и стихов изысканных поэтов, и простодушных народных песен, посвященных Армии-освободительнице. Но и без статуй, но и без стихов я понял бы все: по блеску глаз, по теплу рук.
Недоброжелатели долго, упорно противопоставляли Европу России; и вот с далекого востока, с берегов Волги пришли люди, которые спасли от фашистских вандалов и древние камни Запада, и его будущее».
По-прежнему в центре внимания оставалась Польша. Не случайно 14 ноября 1945 года Сталин, до этого принявший в Сочи только Гарримана, встретился с Генеральным секретарем ЦК ПРП Гомулкой и вице-премьером и министром промышленности Хилари Минцем.
Гомулка просил не вести запись беседы. Сталин выступил собственной стенографисткой. Заверил в начале:
– Мы относимся к полякам и к польским коммунистам так же дружески, как и раньше.
Польские товарищи задавали вопросы, Сталин отвечал.
– Следует ли принять закон о национализации крупной промышленности и банков?
– После принятия такого закона Бенешем пришло время, когда стало необходимым принятие такого закона и в Польше.
– Следует ли допустить привлечение иностранного капитала в Польше?
– Этот вопрос очень серьезный и его нужно хорошо продумать самим полякам.
От себя Сталин сделал примечание для коллег: «Поляки ничего не сказали, что они отвергли в свое время советское предложение о смешанных обществах. У меня получилось впечатление, что поляки не прочь пойти в этой области на уступки иностранному капиталу».