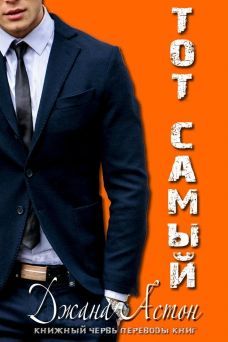Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
«Прагматическая модель» языка широко используется, например, в юридической практике, когда в контексте судебных слушаний защита и обвинение подчас отстаивают две противоположные интерпретации одного и того же высказывания или документа, связывая их с разными свидетельскими показаниями, уликами, юридическими прецедентами и так далее. То есть защита и обвинение пытаются создать разные контексты, а значит и разные смыслы, для одного и того же высказывания{104}. В советском случае прагматическая модель авторитетного языка приобрела несколько уникальных черт, поскольку здесь языковая форма авторитетного дискурса подверглась процессу гипернормализации не в каких-то отдельных контекстах, а на уровне всего авторитетного языка.
Итак, при возрастающей нормализации и стандартизации авторитетного языка наиболее важным было сохранить неизменную лингвистическую форму языковых высказываний, уделяя меньше внимания смыслу, который мог в эту форму «вкладываться». Поскольку смысл того или иного партийного высказывания, голосования или речи стал относительно непредсказуем, одни и те же стандартные формулировки теперь могли использоваться для выражения различных политических тезисов. Характерный пример этого приводит Федор Бурлацкий. Член Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов, отвечавший в политбюро за идеологию, пользовался одними и теми же цитатами из работ Ленина для того, чтобы обосновать различные, подчас даже противоположные идеологические решения. Для этого в личном кабинете Суслова располагалась огромная картотека с короткими цитатами из ленинских работ и выступлений на все случаи жизни. Как-то Бурлацкий показывал Суслову текст очередного программного выступления, и в одном месте Суслов заметил:
«Тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича. Хорошо бы цитатку. <…> Это я сам, сейчас сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил один из ящичков, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит — нет, не та. Другую начнет читать про себя — опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится»{105}.
Таким образом, используя подходящие цитаты из Ленина, вырванные из контекста, Суслов мог представить любые, даже крутые изменения политического курса как примеры поступательности и неизменности линии партии.
Другой пример приводит советский лингвист Эрик Хан-Пира. На протяжении многих лет средства массовой информации СССР, сообщая о похоронах важных политических деятелей партии и правительства, использовали стандартную формулировку: «похоронен на Красной площади у Кремлевской стены». Это клише повторялось часто и было хорошо знакомо советским людям. Однако в 1960-х годах, из-за нехватки места для захоронений возле Кремлевской стены, позади Мавзолея, останки высокопоставленных лиц стали все чаще кремировать, а урны с прахом устанавливать в нишу, вырубленную непосредственно внутри Кремлевской стены. К этому времени ритуал похорон на Красной площади начали показывать по телевидению, и миллионы советских зрителей могли заметить несоответствие между употребляемой языковой формулировкой, «похоронен на Красной площади у Кремлевской стены», и буквальным смыслом ритуала установления урны в Кремлевскую стену. Обратив внимание на это несоответствие, группа из пятнадцати специалистов Института русского языка Академии наук СССР отправила письмо в ЦК КПСС с предложением заменить устаревшую формулировку на новую, более соответствующую новому ритуалу: «Урна с прахом была установлена в Кремлевской стене». Через несколько недель Институт русского языка получил официальный ответ. Обсудив предложение специалистов по языкознанию, руководство ЦК решило оставить старую формулировку без изменений. Разъяснений этого решения дано не было{106}. Очевидно, что с точки зрения ЦК было куда важнее оставить форму авторитетной репрезентации знакомой и неизменной, чем изменить ее для того, чтобы более точно описывать изменившуюся реальность.
В новых условиях для большинства советских людей, которым приходилось писать идеологические тексты (выступления на собраниях, личные отчеты, политинформации и так далее), также стало важнее повторять стандартные идеологические формулировки и отрывки прежних текстов без изменений, добавляя в них как можно меньше своего. Порой доходило до комичных ситуаций, когда абсолютное повторение формы было важнее, чем исправление явно абсурдного смысла. Художники Ленинградского комбината живописно-оформительского искусства (КЖОИ), выпускавшего продукцию наглядной агитации и пропаганды для оформления городских пространств и учреждений, вспоминают, что в начале 1980-х годов комбинат получил партийную разнарядку по случаю празднования 7 Ноября: для фасада одного из зданий в центре города было необходимо изготовить длинное полотнище с текстом лозунга, присланного из горкома партии. На этот раз в текст лозунга закралась ошибка: в нем отсутствовало какое-то слово, что делало текст бессмысленным. Художники, заметившие ошибку, не решились сами ее исправить без санкции вышестоящей партийной организации. Главный художник КЖОИ обратился к инструктору по идеологии горкома с просьбой сделать необходимое исправление. Однако, хотя инструктор согласился с тем, что в текст скорее всего закралась ошибка, исправлять ее он тоже отказался — формулировка была прислана сверху, из Москвы, и добавлять в нее что-то личное инструктор не хотел. В этом эпизоде вновь виден важный принцип функционирования авторитетного дискурса — на местном уровне партийной иерархии было важнее воспроизводить точные языковые формулы этого дискурса, нежели следовать соображениям буквального смысла, который в них якобы содержался{107}.
Дискурс наглядной агитации и политических ритуалов
Застывание и нормализация формы происходила и в неязыковых регистрах авторитетного дискурса — в визуальных образах наглядной агитации, в структуре политических ритуалов (собраний, торжеств, демонстраций, школьных линеек), в пространственной организации новых городских микрорайонов и так далее. Визуальный язык наглядной агитации включал в себя изображения, скульптуры и памятники (Ленину, героям и так далее) на улицах города, портреты членов Политбюро ЦК КПСС, стенды с коммунистической символикой, Доски почета, уличные растяжки с лозунгами, плакаты и тому подобное. В первые годы после революции структура наглядной агитации, как и структура языка вообще, была объектом активных экспериментов, в которых принимали участие художественные объединения и политические организации нового государства{108}. Но начиная с середины 1920-х годов наглядная агитация, как и политический язык, попала под жесткий партийный контроль. Возник широкий публичный метадискурс на тему наглядной агитации, на котором обсуждались и оценивались работы художников, скульпторов, архитекторов, режиссеров и так далее. В поздний период, особенно в 1960–1970-х годах, как и в случае политического языка, наглядная агитация претерпела процесс нормализации и стандартизации. Возникли стандартные визуальные «блоки» агитационных материалов, которые цитировались из одной композиции в другую. Примером этого процесса служит изменение образа Ленина. В конце 1960-х годов, в период подготовки к празднованию столетия со дня рождения Ленина, художников-пропагандистов ознакомили с закрытым распоряжением ЦК КПСС. Как вспоминают художники ленинградского ЮКОИ, в распоряжении говорилось, что, поскольку сегодня осталось мало людей, видевших живого Ленина, образ вождя на агитационных материалах должен был стать более абстрактным, являясь «в меньшей степени изображением обычного человека» и «в большей степени изображением героического символа»{109}.
Изобразительные формы, используемые в образе Ленина на плакатах, в агитационных материалах, в публикациях и скульптурах, стали более стандартными, схематичными, повторяющимися. Ленин стал выглядеть выше, мощнее, приобрел выпуклую мускулатуру. Сократился набор техник рисования и ваяния и набор материалов, цветов и текстур, которые использовались для создания ленинского образа. Общее число стандартных образов Ленина тоже сократилось; они стали более похожими. Количество поз, в которых Ленин изображался, уменьшилось, как и количество контекстов, которые его окружали. Одни и те же элементы визуального ряда все больше кочевали из одного изображения Ленина в другое. Среди профессионалов наглядной агитации набор стандартных образов Ленина имел специальные названия: «наш Ильич» (задумчивый Ленин в образе простого человека), «Ленин с прищуром» (образ вождя с доброй лукавинкой в глазах), «Ленин и дети» (простой и добрый Ленин в окружении детей и близких), «Ленин — вождь» (стремительный, мускулистый Ленин-сверхчеловек), «Ленин в подполье» (Ленин, готовящий революцию) и так далее. Каждый стандартный образ имел номер. Было два стандартных образа пишущего Ленина: «Ленин в своем кабинете» — номер шесть, или, на языке художников-оформителей, «шестерка», и «Ленин в зеленом кабинете» (в шалаше в Разливе) — номер семь, или «семерка». В «шестерке» Ленин сидел на стуле, в «семерке» — на пеньке{110}. В разговорах художников можно было услышать: «Только что пятерочку закончил».