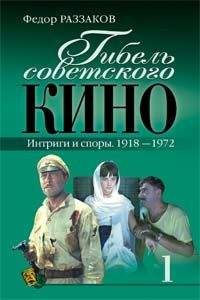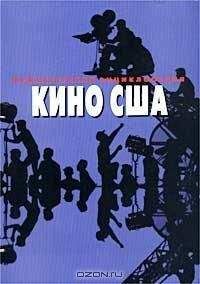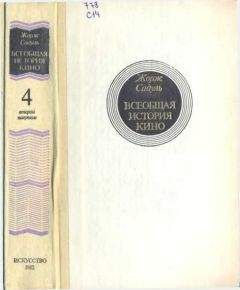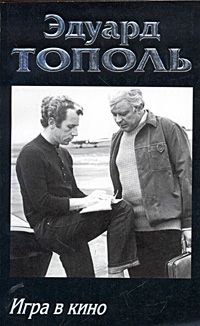Кремлевское кино - Сегень Александр Юрьевич
Томик уже хотел, чтоб поскорее все кончилось, но люди шли и шли, шли и шли. Врезалось в память, как один сказал:
— А я даже и знать не знал, кто у Сталина жена.
Наконец гроб вздрогнул и поплыл на руках у Сталина, Ворошилова и других из ближнего круга. На Красной площади маму Надю поставили на катафалк и повезли вокруг Кремля. Сталин шел рядом, за катафалком оркестр надрывал Москву скорбной музыкой, Томик шел за оркестром. Сыро и студено. По Волхонке, мимо храма Христа Спасителя, по Кропоткинской, бывшей Пречистенке, по Большой Пироговской, бывшей Царицынской.
У Томика мерзли ноги, но он помнил рассказы о том, как Сталина в легких ботиночках гнали в Сибирь, и старался терпеть. Мама Лиза шла рядом и все вздыхала:
— Бедный Иосиф! Бедный Иосиф! За что ему такое?
Теперь она оставалась его единственной мамой. А процессия все шла и шла, Большая Пироговская такая нескончаемая, что на ней можно всем трудящимся мира напечь пирогов, и у Томика заболела голова, словно мама Надя передала ему головную боль по наследству. Наконец пришли на кладбище за южной стеной Новодевичьего монастыря, встали перед разверстой могилой, Вася с Томиком оказались по одну сторону, Сталин — по другую. Он уже не плакал, а только горестно спрашивал не то у окружающих, не то у кого-то невидимого:
— Скажи, почему? Разве я не любил? Не был ласковым и веселым мужем? Почему так со мной?
Он взял горсть земли и первым бросил ее на крышку гроба.
— Вы тоже, — подтолкнули сзади Васю и Томика.
— Зачем это? — спросил Вася.
— Так надо, — ответили сзади, и мальчики тоже взяли по горсти холодной и противной земли, бросили землю в землю, и мама Надя стала быстро-быстро уходить под землю, накрываться ею, уходить от своих болей и огорчений, от всего этого мира, который так любила фотографировать и который так хотела одевать в новые нарядные и недорогие ткани.
После ее похорон наступило долгое тяжкое время. Мама Лиза вернулась в Нальчик, и Томик снова жил в кремлевской квартире, где вместо мамы Нади поселилось некое небытие, и все его чувствовали. Сталин приходил мрачный и молчаливый, его веселость умерла вместе с женой. Однажды он сел и стал снова спрашивать у кого-то незримого:
— За что я так наказан? Разве я был невнимателен? Разве я не любил и не уважал ее как жену, как человека? Неужели так важно, что я не мог лишний раз пойти с ней в театр? Так важно? Я теперь сам жить не хочу.
Его боялись оставлять одного, тетя Нюра и тетя Женя старались быть всегда рядом, поддержать. Как зыбко все в этой жизни! Всего лишь нажать на курок, и рухнул целый мир…
Мальчики продолжали ходить в школу, Вася — в свою образцовую номер двадцать пять, там еще у директорши такая сильная фамилия — Гроза; Артем — в свою вторую артиллерийскую спецшколу. После смерти Надежды Сергеевны он как-то повзрослел, старался в ее честь учиться все лучше и лучше, в отличие от Васи, который только поначалу подтянулся по всем предметам, но после Нового года опять стал волынить. Начальник охраны Сталина, старший уполномоченный ОГПУ со смешной фамилией Власик, которому отныне доверялось и наблюдение за учебой детей генсека, тщетно увещевал его, что сыну вождя партии просто категорически запрещено плохо учиться.
Томику исполнилось двенадцать, он и впрямь резко повзрослел после смерти Надежды Сергеевны, никого теперь не называл дядями и тетями, а только по имени и отчеству: Власик — не дядя Коля, а Николай Сидорович, дядя Павлуша — Павел Сергеевич, тетя Нюра — Анна Сергеевна, а отец — Иосиф Виссарионович.
— Какой он тебе Иосиф Виссарионович? — смеялся Васька. — Он тебе приемный отец. Так и зови его: отец. Или, если хочешь, товарищ Сталин. Только не Иосиф Виссарионович, умоляю. Имя-отчество у отца — как грузовой состав.
И няня Шура, воспитывавшая Сетанку, стала Александрой Андреевной. Она как могла утешала бедную девочку, а та обижалась на маму, что ушла на тот свет. По ночам плакала и звала ее.
Однажды Сетанка строго спросила отца:
— Папа, а почему мы в Гвоздиковский больше не ездим? Хочу кино про Чарли Чаплина.
— В Гнездниковский?.. — задумался отец. — А мы туда больше не будем ездить. Мы скоро Зимний возьмем.
— Как это Зимний? — удивились Вася и Томик. — Его же в семнадцатом году уже взяли.
— Увидите, — ответил Сталин и впервые за несколько месяцев усмехнулся.
Сетанка после этого постоянно канючила:
— Когда Зимний пойдем брать? Ну когда Зимни-и-и-й?
И вот в один из солнечных весенних вечеров, после череды дней рождений, в этом году невеселых и скучных ввиду недавней кончины Надежды Сергеевны, вернувшись вечером с работы, отец объявил:
— Ну, ребята, айда Зимний брать!
И оказалось, не Зимний дворец, а Зимний сад Большого Кремлевского дворца, в котором Шумяцкий, главный по советскому кино, оборудовал кинозал особого назначения — только для товарища Сталина и его ближайшего окружения. Всего несколько рядов кресел, причем в первом ряду центральное, специально для генсека, жесткое, он никогда не любил сидеть на мягком.
— Ну, вот он, Зимний, — сказал Сталин. — При царях тут был Зимний сад. А теперь мы его взяли и здесь будем кино крутить. И не надо в Гнездниковский переулок мотаться.
— Вот здорово! — восторженно воскликнула Сетанка. — Жалко только, что без мамочки.
Сталин как бы не услышал этого, уселся в свое жесткое кресло и зарядил трубку отрезком сигары. Он так иногда курил, и Томику нравилось смотреть, как он аккуратно разрезает тугую сигарную торпеду острой бритвой на пять частей.
— Ну что, товарищ Шумяцкий? Какое сегодня кино крутить будем?
— Готовая картина Бориса Барнета «Окраина», — рапортовал нарком кино.
— Лучше Чарли Чаплина! Чарли Чаплина! — закапризничала Сетанка.
— Это который «Мистера Веста в стране большевиков» снял? — спросил Сталин.
— Так точно, товарищ Сталин, — ответил Шумяцкий. — И еще «Потомок Чингисхана».
— «Потомок Чингисхана» — хорошая фильма, — одобрил главный зритель. — А Чарли Чаплина на потом, на сладкое. Есть там «Огни Большого города» или «Малыш»?
— И то, и другое захватили, товарищ Сталин.
— Ну вот, хозяйка, посмотрим Барнета, а потом Чаплина.
— Не хочу Барнета!
— Напрасно. Только послушай, какая хорошая фамилия. Она отражает то, что у нас сейчас в стране советской — бар нет. Все баре остались там, до революции. Начинайте, товарищ Шумяцкий. Надеюсь, не такое занудство, как «Встречный»?
— Никак нет, товарищ Сталин.
И свет в кинозале стал гаснуть, а на экране по белому фону пошли черные буквы. Сначала без звука, и Томик уныло подумал, что кино немое, но, когда появилась надпись, что звук записан по системе «Тагефон», успокоился.
Фильм «Встречный» заказали к пятнадцатилетию революции, а показывали в самых последних числах октября, дней за десять до гибели Надежды Сергеевны. Томик и Вася тогда присутствовали на показе в Малом Гнездниковском, и оба изнывали от скуки. Сталин тоже еле досидел до конца и после просмотра громко произнес:
— Скукота! Если у нас индустриализацию проводят такие нерешительные люди, да к тому же пьющие водку, мы не скоро создадим сильную промышленность. И как это к юбилею Октября сняли такое занудство! Скукоделы!
Шумяцкий стал возражать, что картина чего-то там отражает, смело выявляет и в целом влечет. Режиссер Пудовкин выступил эффектно:
— Не могу не встать на защиту режиссеров Эрмлера, Юткевича и Арнштама. В фильме главное вот что: человек строит турбину, а турбина перестраивает его.
— И были учтены замечания к сценарию, — продолжал защищать картину Шумяцкий. — Полностью исчезла отрыжка агитпропфильмовщины.
— Как это вы такое длинное слово придумали, а главное, выговорили? — усмехнулся Сталин.
— И совершенно невозможно игнорировать тот факт, что в нашем кино прозвучала замечательная песня. Композитора Дмитрия Шостаковича на стихи поэта Бориса Корнилова.
— Песня? — откликнулся Сталин. — Песня действительно хорошая. «Нас утро встречает прохладой…» Хорошие слова. И музыка хорошая. Ладно, уговорили, ради песни — пусть.