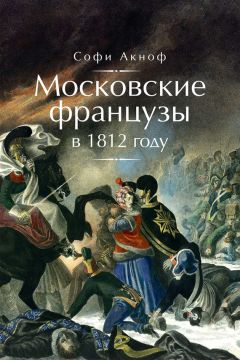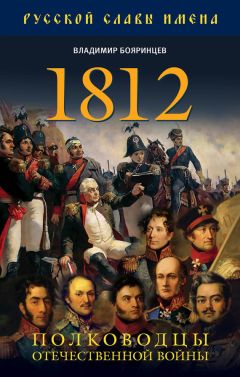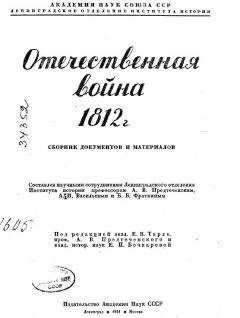Владимир Земцов - 1812 год. Пожар Москвы
Обращение к списку лиц, проходивших по процессу над поджигателями, организованному 24 сентября (н. ст.) французами, это предположение, похоже, подтверждает. Среди 16 «недостаточно изобличенных» значился Семён Иванов, 18 лет, обойщик, уроженец г. Масальска. В списке колодников Тюремного замка на 2 сентября также был некий Семён Иванов, дворовый человек госпожи Ивановой, уличенный в краже, и поступивший в Замок 13 августа 1812 г.[316] Но особенно примечательна фигура признанного виновным в поджогах и расстрелянного Ивана Максимова, старика 70-ти лет, назвавшегося лакеем князя Сибирского и уроженцем г. Козлова. В списках Бутырской тюрьмы был Иван Максимов, поступивший туда 11 июня 1812 г. и значившийся как «воспитанник» богадельни. В графе, где односложно характеризовалась причина ареста, было неопределенно записано: «в отлучке из богаделенного дому»[317]. Имена остальных, проходивших на процессе 24 сентября (н. ст.), в списках Тюремного замка не значатся (что, конечно, не исключает, что кто-то на «суде» вообще назвался не своим именем).
Знал ли Ростопчин о том, что часть колодников Тюремного замка разбежалась или, по крайней мере, догадывался ли он об этом? Этого мы, вероятно, уже никогда не узнаем. В любом случае, московский главнокомандующий не собирался использовать колодников Бутырской тюрьмы для организации поджогов. Ростопчин и так прекрасно знал, что в условиях анархии и грабежей, удаления «огнеспасительного снаряда», да еще и организации нескольких сознательно устроенных поджогов людьми Вороненко, а то и арестантами Временной тюрьмы, столица должна была загореться непременно. Не далее как в июне — июле 1812 г. он сам запретил жителям города «курить табак на улицах» в целях предохранения его от пожара, и повторил этот приказ 12 июля 1813 г., когда прежняя Москва, благодаря в том числе и его усилиям, уже благополучно сгорела[318].
2.3 Московский муниципалитет: тяжкий путь коллаборцианизма
Деятельность муниципалитета и полиции, созданных в Москве Наполеоном, привлекала внимание многих исследователей. Возможно первым, кто написал об этом как историк и свидетель событий, был аббат Сюрюг. По его мнению, деятельность этих органов свелась к минимуму вследствие медлительности французской администрации и путанице, которая в тот период имела место[319]. Затем о муниципалитете и полиции писал участник событий французский военный историк Ж. Шамбрэ, который привел текст прокламации французского интенданта Москвы и Московской провинции Ж.Б.Б. Лессепса от 6 октября[320][321]. Кратко писали об этом известный мемуарист Э. Лабом и секретарь-архивист Наполеона А.Ж.Ф. Фэн[322]. В последующее время зарубежные авторы[323] обращались к этому вопросу весьма фрагментарно, используя, как правило, прежние, ранее известные, материалы. Пожалуй, только французская писательница русского происхождения Д. Оливье попыталась внести нечто новое, отметив, что оба воззвания муниципалитета (от 1 и 6 октября) были обнародованы накануне и сразу после визита генерала Ж.А.Б.Л. Лористона в ставку М.И. Кутузова.
Русская историография вплоть до появления работы А.И. Михайловского-Данилевского хранила молчание об этих органах, созданных оккупантами. Михайловский-Данилевский не только опубликовал обе прокламации Лессепса от 1 и 6 октября, но и дал оценку результативности этих структур как минимальную[324]. То же сделал и М.И. Богданович[325]. Важно отметить, что у Михайловского-Данилевского и Богдановича не было резкого осуждения тех людей, которые, чаще всего, не по своей воле вынуждены были служить в созданном оккупантами муниципалитете. В 1859 г. была опубликована часть воспоминаний А.Д. Бестужева-Рюмина и его донесение министру юстиции И.И. Дмитриеву, написанное в феврале 1813 г.[326] Бестужев-Рюмин не просто участвовал в работе муниципалитета, но и был товарищем городского головы. В 60-е гг. XIX в. были опубликованы списки членов муниципалитета (1866 г.), список иностранцев, уехавших из Москвы с Наполеоном (1868 г.), воспоминания московского француза Ф.Ж. д’Изарна (1869 г.), донесение М. Грацианского (Гратианского), протоиерея Кавалергардского полка, получившего разрешение от муниципалитета и французской администрации проводить в оккупированной Москве религиозную службу[327]. Эти публикации, а также общая атмосфера эпохи «великих реформ», вызвали появление в 1868 г. серьезной публикации Н. Киселева[328]. Автор попытался уточнить список лиц, участвовавших в деятельности муниципалитета, разобрался со структурой этих органов и осветил вопрос о работе Следственной комиссии, созданной по этому поводу. Общий настрой статьи Киселева был в духе манифеста Александра I от 30 августа (ст. ст.) 1814 г. и решения Государственного совета от 17 мая (ст. ст.) 1815 г., в которых почти все участники этих структур были оправданы или прощены. По мнению Киселева, главной целью формирования московского муниципалитета была организация интендантских операций, все же остальные функции муниципалитет и полиция использовали «для маскировки».
Менее детально, но с привлечением новых материалов (в частности, рапортов квартальных надзирателей), хотя и без ссылок на источники, с большим вниманием так сказать к личностной стороне событий, осветил этот вопрос А.Н. Попов в своей работе «Французы в Москве»[329]. Автор отнюдь не собирался осуждать москвичей, пошедших на сотрудничество с оккупантами, но попытался объяснить поступки большинства их вынужденной необходимостью и даже пользой для оставшихся в столице сограждан.
В 1879 г. вышли в свет воспоминания Г.Н. Кольчугина[330], члена муниципалитета, затем — переизданы воспоминания Бестужева-Рюмина и многих москвичей, остававшихся в столице во время оккупации. К столетнему юбилею 1812 г. отношение к московским «коллаборационистам» изменилось окончательно. В.Я Уланов (1912 г.) и П.П. Гронский (1912 г.)[331], работавшие с документами Сенатского архива, пришли к выводу о том, что эти люди были отнюдь не преступниками, но лицами, пытавшимися охранять соотечественников от насилий и грабежей! Пожалуй, только в книге С.В. Бахрушина (1913 г.)[332] все еще звучал прежний мотив о том, что муниципалитет и полиция были слабыми орудиями чужой воли. В советское время тема перестала пользоваться популярностью. Авторы либо вскользь упоминали муниципалитет и полицию[333], либо отмечали их минимальную эффективность в плане помощи оккупантам[334]. В постсоветское время ситуация стала меняться. В 1997 г. А.Ю. Андреев опубликовал интересные письма профессора X. Штельцера[335], хотя и имевшие явную цель оправдать себя как члена муниципалитета, но возбуждавшие искреннее сочувствие к их автору, оказавшемуся в тяжелейших обстоятельствах. В 2001 г. Е.Г. Болдина ввела в научный оборот целый комплекс неиспользовавшихся ранее материалов из Центрального исторического архива Москвы и составила максимально полный список лиц (143 человека), привлеченных к делу во время работы следственной комиссии[336]. Наконец, А.И. Попов в работе 2002 г. вновь попытался оценить эффективность созданных французами русских структур в Москве, солидаризируясь в своих выводах с авторами начала XX в.[337]
Тем не менее, несмотря на наличие обширной историографии, многие вопросы, относящиеся к истории московских органов власти при Наполеоне, на сегодняшний день исследованы слабо или не поднимались вовсе. К таковым мы относим:
1. Цели создания этих органов.
2. Время создания и обстоятельства самого процесса их формирования.
3. Мотивы, предопределившие сотрудничество российских подданных или тех москвичей, которые не приняли присягу на подданство России, с оккупантами.
4. Результативность деятельности муниципалитета и полиции.
Наконец, пришло время поставить вопрос и о том, в чём, собственно говоря, заключались характерные черты коллаборационизма периода Отечественной войны 1812 года.
Особенности возникновения муниципалитета и полиции в оккупированной Москве невозможно понять, не обратившись к той ситуации, которая сложилась накануне прихода армии Наполеона. Прежде всего, следует напомнить, как складывались отношения московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина с московскими иностранцам до прихода неприятеля. Они были более чем натянутыми и отличались со стороны русского градоначальника чрезмерной суровостью. На протяжении мая — августа 1812 г. Ростопчин публично наказал плетьми своего повара Теодора Турне (20 ударов), отправив его затем в Тобольск; француза Петинета (50 ударов), приказав отослать в Сибирь (его не успели отправить, оставив во Временной тюрьме); немецкого портного Шнейдера (30 ударов) и француза Токе (20 ударов), приказав отправить их в Нерчинск (это было заменено на ссылку в Вятку). Были отправлены «за дерзкие слова» в Пермь и Оренбург без публичного наказания плетьми поляки Овернер и Реут, в Сибирь «за агитацию против России» — француз Этьен Гиро и «иностранец» Чернин, а в Пермь — давний недруг Ростопчина доктор А. Сальватори[338].