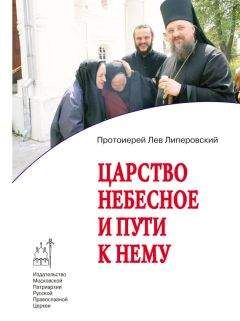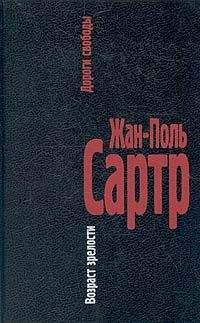Дон-Аминадо - Поезд на третьем пути
В каждом мгновении была вечность.
Горациев нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.
Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.
За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Кадэ Трамблэ, даже кондитерской Сиу на Кузнецком мосту.
Одним из таким закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом, происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт.
Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.
Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одарённую, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.
Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество, блистать отраженным блеском миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна, или, как фамильярно ее называли, Броничка, не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заёмный блеск.
Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя и чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу Первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый, взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.
Бронислава Матвеевна писала милые, лёгкие, как дуновение, и без всякого "надрывчика" рассказы, новеллы и так называемые "Письма женщин", на которые был тогда большой и нелепый спрос.
Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нём было больше скольжений и касаний, чем претензии на глубину, чернозём и суглинок.
Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.
Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег, она, скрепя сердце, еще редактировала пустопорожний еженедельник "Женское дело", официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Попов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.
Издательницей журнала тоже официально значилась "мамаша Крашенинникова", а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхоленный присяжный поверенный Петр Иванович, адвокатурой не занимавшийся, и развивавший большую динамику в настоящем издательском подворье на Большой Дмитровке.
Календари, справочники, газеты-копейки, - главное быстро стряпать и с рук сбывать.
В квартире у Бронички всё было мило, уютно, налажено.
Никакого художественного беспорядка, ни чёток, ни кастаньет, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шаляпина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.
- Если я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засушенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербариум. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! - с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.
По Вторникам или Средам, а, может быть, это были Четверги, - за дальностью лет не упомнишь - во всяком случае поздно вечером начинался съезд, хотя все приходили пешком и расстоянием не стеснялись.
Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адвокат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представительный, губастый, с какой-то не то кистой, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.
С этого и начиналось.
- А у Алжирского бея под самым носом шишка выросла!..
Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:
- Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!
После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.
По одну сторону Анакреона - так его не без ехидства, оправдывавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома, - усаживалась томная и бледная Анна Мар, только что выпустившая свой новый роман под обещающим названием "Тебе Единому согрешила".
По другую сторону, - могий вместити, да вместит, - "дыша духами и туманами", загадочно опускалась на тихим звенением откликавшиеся пружины молодая беллетристка Нина Заречная.
Колокольчик в прихожей не умолкал.
В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных тёмных глаз, прямой, неправдоподобно-худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич.
Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.
- Муравьиный спирт, - говорил про него Бунин, - к чему ни прикоснется, всё выедает.
Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза.
Веселая, блестящая, умница из умниц, - кого угодно за пояс заткнёт, - с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного "охраняющего входы" и, несмотря на ранний час, уже нетрезвого Володи Курносова, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е. В. Выставкина.
Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а поединок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.
Да иначе и быть не могло.
Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского Златоуста, - кстати сказать Златоуст изрядно шепелявил, - коллективном помешательстве на женском равноправии, и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово доставалось на орехи.
Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и всё под дружный и явно одобрительный смех аудитории, и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски вежливого Семёна Рубановича, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими тёмными восточными глазами; ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских имажинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.
А когда появилась Маша Каллаш в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом, - пепельного цвета волосы барашком взбиты, - ну тут от Златоуста, хотя он и хохотал вовсю, и тряс животом, - одно только воспоминание и оставалось.
Прекратил бой Маяковский.
Стукнул по обыкновению кулаком по хозяйскому столу, так что стаканы зазвенели, и крикнул зычным голосом:
Довольно этой толочи,
Наворотили ком там...
Замолчите, сволочи,
Говорю вам экспромтом!
Экспромт имел бешеный успех.
Нина Заречная - пила вино и хохотала.
Анна Мар зябко куталась в шаль, но улыбалась.
Жорж Якулов, как молодой карабахский конёк, громко ржал от радости. Хозяйка дома шептала на ухо Екатерине Выставкиной, подмигивая в сторону предводителя Бурлюков:
- Всё-таки в нём что-то есть.
Рубанович теребил свои усики и утешал Шершеневича, подавленного чужим успехом.
И только один "Муравьиный спирт" угрюмо молчал, и щурился.
Зато неутомимый Мандельштам жал ручки дамам, то одной, то другой, прикладывался мокрыми губами, под нависшими седыми усами, и, многозначительно выпив красного вина из бокала Нины Заречной, стал в позу и, неожиданно для всех, по собственному почину, начал читать, шепелявя, но не без волнения в голосе:
В день сбиранья винограда
В дверь отворенного сада
Мы на праздник Вакха шли.
И любимца Купидона,
Старика Анакреона
На руках с собой несли.
***
Много юношей нас было.
Бодрых, смелых, каждый - с милой!
Каждый бойкий на язык.
Но - вино сверкнуло в чашах
Вдруг, глядим, красавиц наших
Всех привлёк к себе старик.
***
Череп, гроздьями увитый,
Старый, пьяный, весь разбитый,
Чем он девушек пленил?!
А они нам хором пели,
Что любить мы не умеем,
Как когда-то он любил!..
***
Все сразу захлопали в ладоши, зашумели, заговорили. Броня Рунт чокнулась с Златоустом, и так в упор и спросила:
- Это что ж? Автобиография? Маяковский не удержался, и буркнул:
- Дело ясное, Мандельштам требует благодарности за прошлое!
Старый защитник и не пробовал защищаться. Воспользовавшись минутной паузой, он явно шел на реванш.
- Вот вы, господа поэты, писатели, мастера слова, знатоки литературы, скажите мне, сиволапому, а чьи ж, это собственно говоря, стихи?