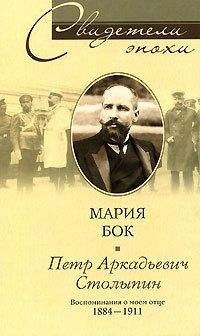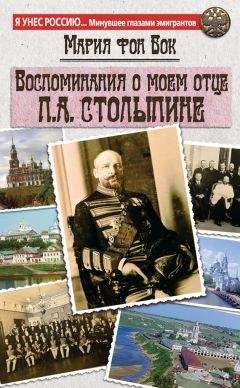М Бок - Воспоминания о моем отце П А Столыпине
{161} Мой отец старался бодро смотреть на будущее, хотя отлично понимал, какую опасность кроет в себе вылившееся в такую форму народное представительство в России. Читая о том, в какую позицию по отношению к правительству поставили себя с первых же шагов левые депутаты, он становился всё озабоченнее.
Начались у нас в Саратове сборы, прощания и проводы. Оказалось, что в столь не полюбившемся мне в начале Саратове мы оставляем много ставших нам близкими людей, и на сердце становилось грустно.
Еще один период жизни кончился, еще разлука с друзьями.
На вокзале было столько провожающих, что без полиции, расчищавшей дорогу, было не пройти.
Человек двенадцать самых близких друзей проехали с нами несколько станций - кто до ближайшей, кто подальше. Когда же нас покинул последний саратовец, стало грустно и пусто в нашем салон-вагоне, и на душе тоже не было весело. Первое лето в жизни не в Колноберже - уж одного этого сознания достаточно, чтобы впасть в уныние, а тут еще гнетущее чувство, что папa будет подвергаться еще большим опасностям, что еще сильнее придется бояться за его жизнь.
{162}
Глава II
Вся наша мебель была послана в Петербург в казенную квартиру министра внутренних дел на Мойке, а мы сами должны были поселиться на казенной даче на Аптекарском Острове. И надо сознаться, что все мои самые мрачные представления о жизни летом в городе, хотя бы и на даче, оправдались вполне.
Дача эта двухэтажная, деревянная, вместительная и скорее уютная, произвела на меня сразу впечатление тюрьмы. Происходило это, должно быть, от того, что примыкающий к ней довольно большой сад был окружен высоким и глухим деревянным забором. Были в нем две оранжереи, были лужайки, большие тенистые липы, аллеи и цветы, но каким всё это казалось жалким после деревенского простора. Каким лишенным воздуха и свободы!
На даче нас встретили казенные курьеры, швейцары и лакеи, незнакомые, официальные и кажущиеся хладнокровными и враждебными, и так было приятно, когда встретишь между ними Казимира и Франюка, которого еще мальчиком вывезли из Колноберже и который теперь, ставши взрослым, превратился в Франца. Хотя и они заменили, подражая казенным лакеям, старое дружелюбно-патриархальное обращение к папa и мамa "Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна" строго официальным {163} "Ваше Высокопревосходительство"; но произнесенные нараспев Казимиром и эти слова не звучали так холодно, как в устах казенных лакеев, с каменными лицами вытягивающихся в струнку. А Франц, помогая вместе с одним из министерских лакеев моему отцу одеваться к какому-то официальному приему, на суетливый вопрос своего нового коллеги: - Где лента его Высокопревосходительства? Лента где? - Обиженно ответил: - Никакой ленты у нас нет, Петр Аркадьевич не генерал.
Привыкший к службе у старых сановников, лакей не мог себе представить, что папa, самый молодой из министров, был в таком маленьком чине, что не имел даже орденской ленты.
Мне лично до того всё не нравилось на Аптекарском, до того одолевала тоска по родине, по Колноберже, что всё кругом окрашивалось в мрачные краски, и я не могу беспристрастно судить и говорить об этом времени.
Старалась я продолжать изучение истории, но книга валилась из рук. Из рисованья тоже ничего путного не выходило; друзей не было; гулять одной, кроме как в нашем саду - тюрьме, запрещалось.
Прямо за нашим садом была церковь. Эту церковь, похожую на деревенскую, я полюбила и ходила туда к каждой обедне. Это было так близко, что мне позволено было ходить туда одной. Проходила я туда прямо через заднюю садовую калитку.
Один раз, когда я после службы направилась к этой калитке и уже взялась за ее ручку, останавливает меня полицейский со строгим окриком: "Куда?" Я спокойно отвечаю: "Домой". - Он еще сердитее: "Куда домой?". - "На дачу моих родителей". - "Так мы вам и поверим, что вы дочь министра, пожалуйте за мной". Подоспел, очевидно, почуяв важную {164} преступницу, второй полицейский и кругом марш! - ведут меня в участок.
Показавшаяся мне сначала очень забавной, вся эта история перестала меня веселить, когда мне пришлось (положим недалеко) пройтись под эскортом полиции по улицам. А когда меня ввели в какую-то очень неуютную комнату с канцелярскими столами, наполненную разными лицами в полицейской форме, вид у меня, думаю, был довольно жалкий и растерянный. Но тут какой-то офицер, по-видимому, начальник присутствующих, узнал меня, вскочил, подбежал ко мне, извинился за излишнее рвение своих подчиненных и проводил меня до нашего сада.
Когда я за завтраком рассказала папa о пережитом мною волнении, он очень смеялся и казалось, был доволен тем, что его охрана работает так добросовестно.
Сам Петербург меня с первого дня очень разочаровал: мрачным, ненарядным, недостаточно "европейским" показался он мне после Берлина и Вены, а вместе с тем, не было в нем и восточного великолепия Москвы.
Лишь позднее оценила я красоту нашей столицы:
"Невы державное теченье", сказочно легкие очертания Петропавловской крепости в морозном тумане вечерних петербургских сумерок.
Но мы летом редко и бывали в городе, лишь изредка ездили мы туда с мамa за покупками или в Думу, когда должен был говорить папa. Как ни далек от деревни был наш Аптекарский Остров, но всё-таки всегда приятно было вернуться на набережную Невки, обсаженную деревьями, где находилась наша дача: как никак там была зелень и хоть "дачная", но всё-таки природа. К тому же не всегда и бывали приятны эти поездки. Помню я, как раз, когда мы проезжали в {165} коляске с мамa по одной из улиц островов, по дороге в город, до нас отчетливо долетели слова каких-то стоявших там парней, злобно нас оглядывающих: "Хороша колясочка, нам она скоро на баррикады очень даже хорошо пригодится". Сказано это было вызывающе громко.
{166}
Глава III
Первое посещение Государственной Думы произвело на меня неизгладимое впечатление. Столько мне рассказывал про наш "парламент" мой учитель истории в Саратове, восторженно описывая это собрание мудрых, проникнутых самыми высокими идеалами людей, горящих желанием самоотверженно работать на благо родины. И когда я в газетах читала отчеты заседаний Государственной Думы, мне слышались спокойные, умные речи, рисовались вдумчивые лица, серьезные, взвешивающие каждое слово люди, знающие, что их речам суждено разнестись потом по всей России. И седовласый председатель Думы Муромцев представлялся мне каким-то полубогом, отрешившимся от всего мирского.
Каковы же были удивление и ужас мои, когда я увидала до чего мало общего между нашей Государственной Думой и Афинским Ареопагом, как я себе его представляла.
А как забилось сердце, когда я в первый раз увидала моего отца, всходящего на трибуну! Ясно раздались в огромной зале его слова, каждое из которых отчетливо доходило до меня. Да, папa отвечал моему представлению - он был поразительно серьезен и спокоен. Лицо его почти можно было назвать вдохновенным, и каждое слово его было полно глубоким убеждением в правоту того, что он говорит. Свободно, убедительно и ясно лилась его речь.
{167} За короткое время своего существования первая Государственная Дума закидывала правительство запросами, вперемежку с которыми занималась разработкой самых крайних предложений. Обсуждались всё те же вопросы об общей амнистии, об отнятии земли у помещиков, об отмене смертной казни...
Недолго дали говорить моему отцу спокойно: только в самом начале его речи всё было тихо, но вот понемногу на левых скамьях начинается движение и волнение, депутаты переглядываются, перешептываются. Потом говорят громче, лица краснеют, раздаются возгласы, прерывающие речь. Возгласы становятся всё громче, то и дело раздается "в отставку", всё настойчивее звонит колокольчик председателя. Скоро возгласы превращаются в сплошной рев. Папa всё стоит на трибуне и лишь изредка долетает до слуха, между криками, какое-нибудь слово из его речи. Депутаты на левых скамьях встали, кричат что-то с искаженными, злобными лицами, свистят, стучат ногами и крышками пюпитров... Невозмутимо смотрит папa на это бушующее море голов под собой, слушает несвязные, дикие крики, на каждом слове прерывающие его, и так же спокойно спускается с трибуны и возвращается на свое место.
Совершенно ошеломленная, не веря глазам и ушам. встала я и глядела вниз в залу. Не менее меня была взволнована и вся остальная публика и, как в чаду, покинули мы Таврический дворец.
{168}
Глава IV
Весь конец июня и начало июля прошли очень тревожно. Единственное время, когда я могла задавать папa вопросы, был вечерний чай, который мой отец приходил пить в гостиную и на котором, кроме мамa и меня, почти никогда никто не присутствовал.
Помню, как папa говорил, что не только в Государственной Думе, но и в Кабинете министров полного согласия нет, что и является главным тормозом для принятия более решительных мер. Председатель Совета министров признавал лишь одни самодержавные решения государя, и это делало заседания Кабинета министров пассивными. Между тем папa говорил, что сила правительства проявится лишь в том случае, если оно будет выносить свои решения "объединенным" министерством и этим облегчит непосильную работу государю.