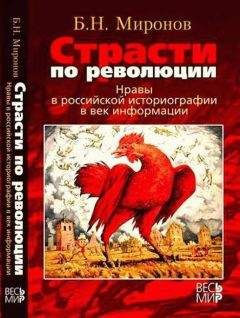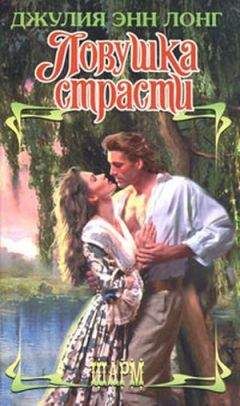Евгения Альбац - Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ
Если и это кого-то не спасало, если оказывалось, что и Указ об амнистии 1953 года «не работает», и срок давности по статье 193/17 еще не истек, — о, тогда… Тогда из уголовного дела просто-напросто вынимались целые тома следственного материала — те тома, по которым суд мог бы обвинить в совершении преступления по статье о воинских преступлениях. Так, например, случилось с подполковником Боярским, с которым читатель еще познакомится в этой главе.
Ну и, наконец, были и другие, лежащие за границей уголовного кодекса возможности. Военным прокурорам элементарно «выкручивали руки». «Если бы вы знали, как на нас давили, — не выдержав моих расспросов воскликнул однажды генерал Викторов. — И как трудно нам было вести расследования: в огромном большинстве случаев свидетелей пыток и мучений просто уже не было в живых: кто расстрелян, кто забит в тюрьмах, кто погиб в лагере… И потом, — продолжал Борис Алексеевич, — вы ведь можете себе представить, что за дверями наших кабинетов стояла многотысячная очередь тех, кто ждал своей собственной реабилитации или реабилитации своих мужей, отцов, матерей… Живым справка о реабилитации нужна была для того, чтобы начать жить».
Меня подмывало сказать Викторову, что и осуждение следователей необходимо было для того же — чтобы всем нам жить, а не мучиться в этой стране… Но подумала: легко обвинять военных прокуроров в отсутствии принципиальности, коли у 99 процентов из нас ее не было. И — нет. Да и многое ли изменилось бы, коли Система оставалась прежней?..
Нет, все-таки кое-что изменилось бы. Но для этого нужен был советский Нюрнберг.
У Страны Советов была единственная возможность восстановить справедливость и наказать убийц: квалифицировать преступления сталинской поры как геноцид, как преступления против человечества — каковыми они и были. Другими словами — деяния следователей НКВД-МГБ должны были бы быть отождествлены с преступлениями создателей Освенцима и Бухенвальда, с преступлениями тех, кого советские суды и сегодня приговаривают к высшей мере наказания…
Но советский Нюрнберг был невозможен. Ибо так же, как Нюрнберг немецкий, он вскрыл бы преступность самой Системы и ее идеологии. ИДЕИ, их породившей.
В результате, посадив за решетку или расстреляв несколько десятков сотрудников НКВД-МГБ, режим, с одной стороны, — как бы удовлетворил всегда присущую России жажду возмездия, с другой — показал: вот они, именно они, эти полковники и генералы, — виновники ваших мук, поломанных судеб и вырванных с корнями жизней. Что порочна сама система органов безопасности (о государственном устройстве и не говорю) никто из наших вождей ни тогда, ни позже не сказал… «Одним из первых актов Западной Германии после окончания войны, — писал как-то Лев Разгон, — был акт публичного государственного извинения перед жертвами фашистов, широчайшая материальная компенсация их близким. ГДР, скинувшая своего коммунистического лидера, но еще не вошедшая в состав Объединенной Германии, тоже тут же присоединилась к этому извинению.»{13} «Нам каяться не в чем», — говорил Председатель КГБ, генерал Крючков.{14}
Закономерен вопрос: куда же тогда подевались все эти следователи НКВД-МГБ? Как куда? Я что-то не слышала, чтобы кто-нибудь из них был выдворен из Страны Советов как лица, дискредитирующие их социалистическую Родину… Преданные органам до смертного одра уже за одно то, что те «вывели их из-под боя» — отвели от них суд, решетку, а возможно, и высшую меру наказания, — они представляли собой действительно бесценные для КГБ кадры. Об одном таком человеке я и хочу здесь рассказать.
* * *Эта история началась для меня еще в то время, когда я занималась Хватом. А закончилась спустя два с половиной года, весной 1990, очерком «Лубянка: будет ли этому конец?».{15} Хотя понятно, что по жизни — сие не конец, а сплошное многоточие.
Но начну я не с начала — с середины, с 5 сентября 1988 года. Начну так не ради интриги — я не беллетрист, и не потому, что в этот день мне исполнилось тридцать лет, и дома меня ждал накрытый стол, гости и трехмесячная дочь Лелька, требовавшая материнской груди, а мама в это время сидела на собрании в актовом зале Института проблем комплексного освоения недр (ИПКОН) Академии наук СССР и благодарила судьбу, за то, что Господь определил ее в журналистику.
Просто в этот день происходило событие, не имевшее, насколько я знаю, прецедента в советской истории и уже по одному тому стоившее десятка праздничных столов. Подонку и убийце, чекисту с полувековым стажем, в этот день публично, с документами на руках, люди, выросшие в смертельном страхе перед такими, как он (а кое-кто и перед ним лично), в глаза сказали: подонок и убийца. Хотя, конечно, в интеллигентном ученом собрании выражения употреблялись помягче. Ну что ж, пусть будет так (все-таки «убийца» — категория, определяемая судом): ему было выражено общественное презрение.
Человек этот — бывший следователь НКВД, на совести которого как минимум 117 человеческих жизней: 57 — расстреляны, 4 — умерли от пыток в процессе следствия, остальные отправлены в лагеря, где многие и погибли;{16} палач, которому инкриминируется «убийство способом особо мучительным для убитой, с использованием ее беспомощного состояния»;{17} обладатель высшего кагебэшного отличия — знака «Почетный чекист», специалист по научной и творческой интеллигенции, подполковник госбезопасности в запасе Владимир Боярский.
Он же — кандидат исторических и доктор технических наук, заведующий лабораторией истории горного дела ИПКОНа, преподаватель Горного института, член Союза журналистов CCСP, жуир и покоритель женских сердец, желанный гость самых престижных столичных творческих домов и задушевных интеллигентских компаний, профессор Владимир Ананьевич Боярский.
О Боярском я написала в одном из своих очерков, написала тогда немного (почему так — рассказ впереди), всего 2–3 страницы, но факты — в том числе и приведенные выше — там были, и были для репутации профессора, конечно, убийственные.
Коллеги Боярского — я имею в виду по научной его деятельности — ни о чем подобном, естественно, не подозревали, а если кто-то что-то и подозревал, то конкретики не знал и узнать не стремился. В брежневские годы на всяческие разговоры о репрессиях был наложен строжайший запрет, а кагебэшники мерещились за каждым углом. Впрочем — они там и были. Не случайно, Владимир Ананьевич где-то с начала семидесятых вновь стал гордо писать во всех открытых анкетах, что работал в НКВД-МГБ, тогда как в хрущевские времена о своей деятельности в тридцатых-пятидесятых скромно проставлял: «Был на воинской службе».
Короче, в институте, в Академии наук информация о двойной жизни Боярского произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Кто-то — из людей постарше — тихо хватался за сердце, вспоминая свои излишне откровенные беседы с коллегой — профессором, кто-то перестал спать по ночам, опасаясь, что его очевидная близость к Боярскому, частые задушевно-доверительные (с упоминанием фамилий) разговоры с подполковником наведут на определенные размышления друзей-товарищей. Не буду никого называть, но могу сказать сразу: таких людей было немало и в ученой среде, и в среде журналистско-писательской…
Сам Боярский к публикации в «Московских новостях» отнесся профессионально, то есть спокойно. Статья его не испугала. Надо признать: воли и выдержки этому человеку не занимать — закалка сильна.
Нет, конечно, было неприятно как раз накануне Дня Победы увидеть под своим портретом в институтской галерее участников Великой Отечественной войны кем-то привешенную табличку — «палач». Неприятно было ощутить и пустоту в ответ на протянутую им для рукопожатия руку. Немного подпортил настроение и разговор с новым директором института членом-корреспондентом АН СССР Климентом Трубецким. Тот всего несколько месяцев как принял хозяйство и, конечно, был ошарашен нежданно-негаданно свалившимся на него «подарком» — раздражения не скрывал. И то понятно: куда ни приходил, «слава» впереди него бежит: «это у вас этот мерзавец работает?» «Если все изложенное в газете, как вы утверждаете, клевета, — сказал Боярскому тогда Трубецкой, — то вернуть вам честное имя может только суд». В суд Боярский, естественно, не подал — слава Богу, не мальчик — подполковник госбезопасности, опыта o-го-го! И покаянные вериги — опять же опыт, опыт! — не надел. «Ты чего же не пришел? — укорил дальнего родственника, не оказавшегося на традиционном семейном сборе, аккурат после публикации в газете. — Статью прочитал и не смог… — Другие тоже прочитали, и ничего, пришли,» — рассказывал мне в телефонном разговоре тот родственник.
Однако и в бездействии Боярский не сидел. На все вопросы отвечал однозначно: ложь. В НКВД — да, работал, но следователем никогда не был и никого не сажал. Жонглировал какими-то бумагами со звучными подписями. Намекал на высокие связи — фамилии употреблял все известные: секретарей ЦК и членов Политбюро. Почти не блефовал — связи у него действительно были, и тянулись они из прошлых времен. Сколь высокое положение занимал тогда Боярский, можно понять хотя бы по тому, что его фамилию я нашла в одном из писем Сталина Клименту Готвальду, руководителю Чехословацкой компартии. Сам же Боярский жаловался мне, что Главная военная прокуратура «обрушилась» на него в конце пятидесятых (то есть завела уголовное дело) только потому, что он, Боярский, поссорился-де с Никитой Хрущевым.