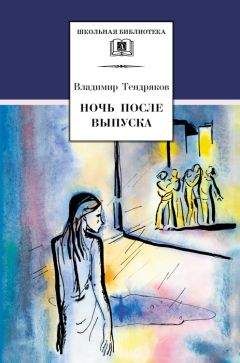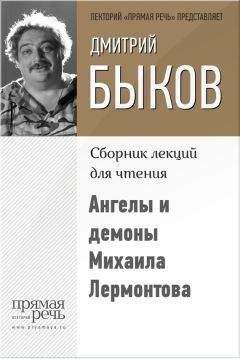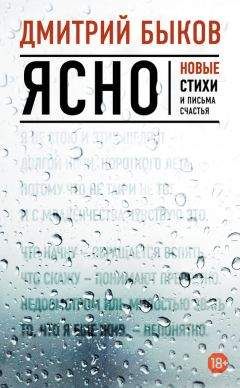Дмитрий Быков - Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник)
А вообще-то школа напоминает мне тесный ботинок. Как получается: вот ты прогуливаешься босиком по травке, шлепаешь по лужам, пребывая в счастливом дошкольном домашнем детстве, потом в первом классе на тебе зашнуровывают жесткие башмаки не по размеру и начинают дрессировать, то есть учить жизни. И что мы видим: пятки стерты в кровь, пальцы мучительно подогнуты, ты уже не весело порхаешь, а понуро хромаешь. Потом, к старшей школе, становится немного легче – где-то на ногах нарастают плотные мозоли, а где-то в башмаках образуются прорехи, и через них можно время от времени пошевеливать пальцами, почуявшими свободу.
Память прокручивает ленту воспоминаний, и можно нырнуть в самое начало школы. Там всё по-прежнему: громоздкие зеленые парты с щелкающими тяжелыми крышками тремя длинными рядами выстраиваются в просторной классной комнате, белые двери и окна вытягиваются к потолку, а сам потолок отодвигается куда-то далеко-далеко, к небу.
Я сижу на первой парте, передо мной – Полина Александровна, наша учительница. Она немолодая, сухощавая, строгая и четкая. Главное в классе – порядок. Всё по правилам, по ранжиру, всё на своих местах. Ученики тоже рассортированы: у окна – колонка «умных» отличников-хорошистов, в центре – середнячки, у двери – «худая» колонка для хулиганов и двоечников. Учиться не трудно, а вот все остальное – очень трудно. Здесь, в школе, все становится как-то неловко, неуклюже, незнакомо, форма неудобная, ранец большой. А главное – время становится вязким, медленным и долгим. Четыре урока – это очень большой школьный день, неделя от понедельника до субботы – огромное пространство, наполненное переживаниями, тревогами, домашними заданиями, контрольными работами, диктантами.
Самый любимый день – суббота, на последнем уроке в субботу – внеклассное чтение. Дежурные приносят в класс металлические корзинки с треугольными пакетиками молока и хлебом. И вот оно счастье, – сидишь, пьешь прохладное молоко с пахучим ржаным хлебом и слушаешь книжку про пионеров-героев, а впереди воскресенье…
А где-то далеко еще и каникулы, но ждать их приходится очень долго. От одних каникул до других простирается целый океан, который по опасным волнам надо умудриться переплыть на своей маленькой лодочке. Когда начались мои первые летние каникулы и я стала мысленно рассматривать прошедший год, у меня перед глазами сам собой нарисовался большой разноцветный бублик, с одной стороны которого было светлое солнечное лето, а с другой стороны – напротив – темная, темно-синяя зима. Между ними – весна и осень. Этот бублик, или, по-научному, – тор, был огромный, живой, он покачивался передо мной и переливался красками. С тех пор я именно так и вижу время, и когда мне говорят: а у меня день рождения, например, в сентябре, – я тут же вижу свой сентябрь, на боку переливающегося круга, где сентябрь уже чуть темнее летнего августа, но еще золотист и ярок. Увидев эту картинку впервые и еще раз мысленно пройдя через осень, зиму и весну первого класса к летним каникулам, я подумала: какой огромный год, и таких в школе – целых десять! Я постаралась представить себе бесконечность этих десяти лет, и у меня даже голова закружилась. Подумала тогда: какая длинная жизнь…
Игорь Соловьев
Она так и сказала: «У-у-у, гнида!..»
Казанская зима в том году была мягкой, просто на редкость. Оттепели шли одна за другой, сопровождаемые снегопадами и метелями. Однако большого таяния снега не случалось – что называется, зима держалась в рамках.
Как это нередко бывает в такую погоду, я часто простужался и болел. Видимо, вирусы не хотели замерзать и распространялись со скоростью тех же метелей. В ту зиму, в конце семидесятых, я заболел особенно тяжело. Дело дошло до того, что даже чихал кровью. Стоило мне забыться, что было немудрено при частых подъемах температуры, и не прикрыться платком, как после громкого звука красные брызги разлетались по всей комнате, садились на стены, постель, белье, и сладковатый запах еще долго витал в моей берлоге.
Обычно после недели, а то и двух, приходили школьные товарищи попроведать, не откинул ли их одноклассник коньки? Ко мне явилась делегация из четырех парней и двух девчонок. Но в этот раз они как-то особенно мялись, даже когда я пригласил их столу.
– Ну, как у тебя дела?
– А мы тут контрольную по математике написали.
– Жалко, что ты пропустил!
Тут все засмеялись.
– Да уж! Так жалко, что прямо хоть вставай и беги, пиши ее, родимую! – в тон ответил я.
Но получилось, что мои слова о «беги» оказались пророческими. В конце концов один из пацанов, Федя, самый неразговорчивый и косноязычный, набрался смелости и быстро выпалил. Оказывается, надвигался районный смотр пионерских знаменных групп школ. И наша пионервожатая заодно попросила ребят узнать, когда я встану на ноги, чтоб рассчитывать на меня на этом смотре или нет.
Я был командиром знаменной группы, знаменосцем пионерской дружины нашей школы. Перейдя в комсомольцы, с этими же ребятами до окончания учебы носил и комсомольское знамя. Но пока надо было выполнить просьбу общественности: выйти хотя бы на полдня и выступить на смотре. Федя, длинный и поэтому немного сутулившийся парень, спортсмен, который мог одновременно быть и скромным, и гордым в своих спортивных победах, смотрел на меня если не с мольбой, то с большой просьбой в глазах. Почему-то в ту минуту остальные и более разговорчивые, и более близкие ко мне ребята отворачивались от моего взгляда, болтали на разные темы, только не о том, что мне, все-таки еще не окрепшему, придется пройтись по холодку до школы, а завтра – и в районный пионерский штаб.
Я проводил одноклассников, вымыл посуду. Тянуло полежать. Организм, сидящий на таблетках и травяных растворах, уже переутомился. Но надо было идти. В принципе, я знал, что пойду, уже на следующую минуту, как мне сказали об этом. Просто надо было немного привыкнуть к своему новому героическому статусу и найти слова оправдания для родителей. Так уж нас воспитывали: сначала общественное, а потом личное!
Через пятнадцать минут, не очень уверенно ступая по свежему снегу, я шел в школу, переваривая неприятный разговор с отцом, который состоялся перед самым моим уходом. Он зашел домой обедать, а заодно проконтролировать мое состояние. Застав меня одетым и вытянув все подробности, отец сказал мне все, что думал по этому поводу. Пройдя школу райкомовско-райисполкомовской работы, он прекрасно знал цену таким мероприятиям и всему, что за ними стояло. В общем, он сорвался и наорал на меня. Я не шибко возражал, понимая, что в принципе отец прав. Но и я был прав. Даже пусть ценой продления больничного.
Поднявшись на третий этаж, я столкнулся лоб в лоб с нашей учительницей по истории и обществоведению Викторией Богуславовной Шпильцер, или, как мы ее еще называли между собой, – Шприцем. Я к ней относился лояльно, как и она ко мне. Ничего плохого мы друг другу не делали, но и особой сердечности тоже не было. Из-за слабости я покрылся испариной и, поняв, что встречи не избежать, прислонился к перилам, решив заодно отдохнуть и перевести дыхание. В этот момент я меньше всего хотел, чтобы меня утешали, сочувствовали, охали и ахали. Самой лучшей реакцией любых взрослых, встреченных мною на пути, было бы их молчание или вопрос о здоровье. Но то, что я услышал, превзошло все мои ожидания.
– Знаю, знаю все твои дела. У-у-у-у, гнида ты паскудная! – заботливо похлопала она меня как маленького ребенка по голове и стала спускаться, смешно переваливаясь по ступенькам.
Потом я разговаривал с пионервожатой, с классной руководительницей, договаривался о завтрашнем смотре… А в голове звучали эти слова. Одевался, шел домой, дома пил горячий чай, глотал таблетки и долго лежал с закрытыми глазами. Но не переставал думать о словах Виктории Богуславовны. В глазах у нее при этом было понимание того, что я специально заболел и пришел на смотр, чтобы выставить себя героем и получить причитающую в таких случаях порцию славы. Она, да и, наверно, некоторые учителя также думали о том, что этот маленький хитрец – всего лишь гнусный пройдоха, который все обернет на пользу своей пионерской и будущей комсомольской карьеры. Ужас, страх и отчаяние овладели мной. Может, историчка и часть ее коллег думали так, потому что сами поступили бы так же?
С другой стороны, я понимал, что по интонации сказанного она меня вроде как хвалила, жалела и одобряла мой поступок. Но… в какой форме!? Меня, знаменосца школы, ее гордость, чья фотография не сходила со всевозможных досок почета и чья фамилия произносилась на каждом собрании и линейке только в положительном смысле… За что?..
Мы, как всегда, взяли на смотре первое место, потом победили в городе и в области. На моем выздоровлении это почти не сказалось – всего лишь добавило еще неделю постельного режима.