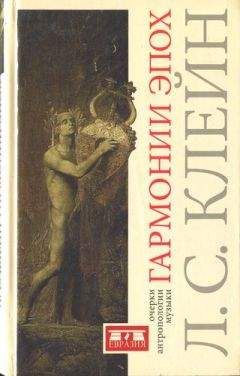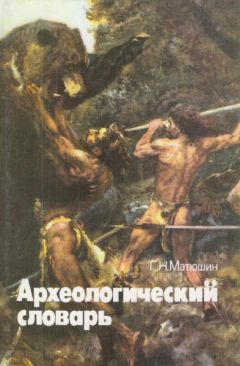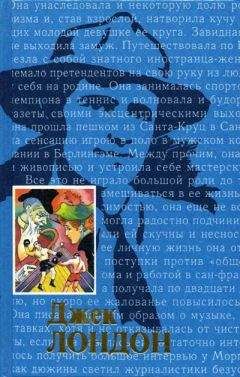Джон Зерзан - Первобытный человек будущего
Широко распространившаяся склонность к фаст-фуду проявляется и в изобразительном искусстве — в производстве легко потребляемых развлечений. Говард Фокс считает, что «возможно, единственным всеобъемлющим свойством постмодернистского искусства является театральность». Декаданс и опустошенность обнаруживаются и на мрачных полотнах Эрика Фишля, при взгляде на которые начинает казаться, что ужас таится прямо под поверхностью. Эта особенность связывает Фишля, типичного американского художника-постмодерниста с не менее зловещим сериалом «Твин Пике» и эталонным телевизионным постмодернистом Дэвидом Линчем. Начиная с Уорхола образ становится вполне осознанно и механически воспроизводимым предметом потребления, и в этом подлинные причина и отсутствия глубины, и общего духа мрачности и зловещих предчувствий.
Часто отмечаемая эклектичность постмодернистского искусства представляет собой произвольное перемешивание кусочков, набранных отовсюду, особенно из прошлого, которое нередко принимает форму пародии и китча. Искусство — деморализованное, раз-воплощенное, деисторизированное — уже не принимает себя всерьез. Образ перестает отсылать к первичному «оригиналу», который находится где-то в «реальном» мире — он все чаще и чаще соотносится исключительно с другими образами. Таким образом, видно, насколько мы потеряны, насколько оторваны от природы во все более опосредованном мире технологического капитализма.
Впервые термин «постмодернизм» был употреблен в 70-х по отношению к архитектуре. Кристофер Дженкс писал об антиплановом, проплюралистическом подходе, отказе от мечты модерна о чистой форме в пользу интереса к «разнообразию человеческих голосов». Куда честнее были Роберт Вентури, восторгавшийся Лас-Вегасом, и Пьер Гоф, признавший, что постмодернистская архитектура заботится о людях не больше, чем модернистская. Арки и колонны, водруженные на крышах модернистских домов-коробок — это лишь тонкая оболочка игривости и индивидуальности, которая вряд ли способна преобразовать прикрываемое ею анонимное сосредоточение богатства и власти.
Писатели-постмодернисты ставят под вопрос основы литературы как таковой вместо того, чтобы по-прежнему создавать иллюзию внешнего мира. Художественные произведения перенаправляют внимание на самих себя: например, Дональд Бартелм пишет рассказы, которые, кажется, постоянно напоминают читателю о том, что они вымышлены. Протестуя против утверждения, точки зрения и других видов репрезентации, постмодернистская литература обнаруживает дискомфорт в отношении тех форм, которые приручают и одомашнивают продукты культуры. Мир становится все более искусственным, а смысл — все менее подверженным нашему контролю, и новый метод — показывать иллюзорность, даже если для этого приходится не говорить ничего содержательного. Здесь, как и везде, искусство сражается с самим собой: предыдущие заявления, что оно сможет помочь нам понять мир, теряют силу, а сама концепция воображения исчезает.
Для некоторых потеря рассказчика или точки зрения равносильна лишению возможности определить наше место в истории. Для постмодернистов эта потеря является чем-то вроде высвобождения. Например, Реймонд Федерман торжествует по поводу возникающей литературы, которая «будет на вид лишена всякого смысла ..., сознательно алогична, иррациональна, нереалистична, непоследовательна и бессвязна».
Фантастика, находящаяся на подъеме уже несколько десятилетий — это типичная для постмодерна форма, напоминание о том, что все фантастическое противопоставляет цивилизации те самые силы, которые она должна подавлять в себе, чтобы выжить. Но это такое фантастическое, которое, в параллель и деконструкции, и растущему уровню цинизма и смирения в обществе, само в себя не верит достаточно, чтобы достичь заметного взаимодействия и понимания. Постмодернистские писатели, кажется, задыхаются в наслоениях языка, и все, что они могут выразить, — это собственное ироническое отношение к притязаниям на истину и смысл со стороны более традиционной литературы. С этой точки зрения типичен роман Лори Мур «Вроде как жизнь» (1990), название и содержание которого обнаруживают отход от жизни и инверсию «американской мечты» — в которой в будущем может быть только хуже.
ВОСПЕТЬ БЕССИЛИЕ
Постмодернизм подрывает два основных положения гуманизма эпохи Просвещения — способность языка к формированию мира и способность сознания к формированию личности. Так образуется постмодернистская пустота, ощущение того, что стремление к эмансипации и свободе, обещанным гуманистическими принципами субъективизма, удовлетворено быть не может. Постмодернисты рассматривают личность как лингвистическую условность; как сказал Уильям Берроуз, «ваше представление о собственном "я" совершенно иллюзорно».
Очевидно, что знаменитый идеал индивидуальности уже давно подвергается давлению. В действительности, капитализм достиг совершенства в восхвалении индивида, одновременно уничтожая его. Работы Маркса и Фрейда много сделали для того, чтобы разоблачить ошибочную и наивную веру в независимое рациональное кантианское «я», отвечающее за реальность. Альтюссер и Лакан, современные структуралистские интерпретаторы, внесли свой вклад в это разоблачение и скорректировали его в соответствии с новыми реалиями. Но сейчас давление так возросло, что сам термин «индивид» устарел — говорят «субъект», с устойчивой коннотацией «состоять в подданстве» (как, например, в устаревшем выражении «быть подданным короля»). Даже некоторые радикальные либертарианцы, такие как французская группа «Расследования», вместе с постмодернистами отрицают индивидуальное как ценностный критерий, поскольку идеология и история девальвировали данную категорию.
Таким образом, постмодернизм показывает, что автономия — это миф, а заветные идеалы власти и воли — заблуждения. Но хотя как следствие нам обещают новую, серьезную попытку демистификации власти, скрывающейся под обликом буржуазной гуманистической «свободы», на самом деле мы получаем такое радикальное распыление субъекта, что в результате его — в качестве какого-либо агента действия вообще — можно считать бессильным и даже несуществующим. Тогда кто или что может достичь освобождения — или это еще один воздушный замок? Постмодернизм хочет и того, и другого — думающий человек должен быть «подвергнут стиранию», притом что само существование постмодернистской критики зависит от таких дискредитировавших себя идей, как субъективизм. Фред Дэллмэйр, признавая широкую привлекательность современного антигуманизма, предупреждает, что первыми жертвами его будут рефлексия и оценочные суждения. Если признать, что мы в первую очередь порождения языка, то прежде всего мы лишимся способности постигать целое, причем именно в тот момент, когда нам это крайне необходимо. Неудивительно, что для некоторых постмодернизм на поверку оказывается эквивалентом обыкновенного либерализма без субъекта и что феминистки, которые пытаются определить или восстановить подлинную и независимую женской идентичность, тоже его не особенно одобряют.
Постмодернистский субъект — то, что от него предположительно остается, — это, судя по всему, личность, персоналия, сконструированная технологическим капиталом в собственных целях. Теоретик марксизма Терри Иглтон описывал этот субъект так: «Дисперсная, децентрализованная сеть либидозных привязок, лишенная этического содержания и физической сущности, эфемерная функция того или иного акта потребления, масс-медийного переживания, сексуальных отношений, тенденции или моды». Можно объявить, что данное Иглтоном определение теперешнего не-субъекта, заявленного постмодернистами, искажает их точку зрения, но непонятно, на каком основании — где найти аргументы против его уничижительного вывода. В постмодерне исчезает даже отчуждение, так как отсутствует сам субъект, подвергаемый отчуждению! Сложно представить себе лучшего предвестника нынешней фрагментации и бессилия, и сложно представить подход, в котором существующие гнев и недовольство игнорировались бы так же тщательно.
ДЕРРИДА, ДЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗЛИЧЕНИЕ
Но оставим разговоры об историческом контексте и общих характеристиках. Наиболее влиятельным и специфическим постмодернистским подходом был подход Жака Деррида, известный начиная с 60-х годов как деконструкция. Постмодернистская философия — это, прежде всего, сочинения Деррида, а деконструкция, будучи самой первой и наиболее радикальной методикой, вызвала широкий резонанс не только в самой философии, но и в поп-культуре и ее нравах.
«Лингвистический поворот», конечно, повлиял на возникновение феномена Деррида; Дэвид Вуд даже назвал деконструкцию «совершенно неотвратимым развитием современной философии», где мысль борется со своим неизбежным проклятием — существованием в качестве письменной речи. Деррида сделал карьеру на том, что показал язык как нечто не невинное и нейтральное, но несущее в себе в себя немалое количество встроенных предубеждений; он также раскрыл то, что считает принципиальной внутренней противоречивостью человеческого дискурса. Математик Курт Гедель в своей «Теореме о неполноте» доказал, что любая формальная система может быть либо непротиворечивой, либо полной, но не то и другое сразу. Похожим образом Деррида утверждал, что язык постоянно оборачивается против самого себя, и после тщательного анализа обнаруживается, что мы уже не можем ни высказать то, что имеем в виду, ни иметь в виду того, что говорим. Однако, как и семиологи до него, Деррида одновременно предполагает, что метод деконструкции может демистифицировать идеологическое содержание любого текста, интерпретируя любую человеческую деятельность как по существу текст. Таким образом, как бы разоблачаются основные противоречия и маскировочные стратегии, присущие метафизике языка в самом широком смысле этого слова, и в результате есть надежда на знание более непосредственное.