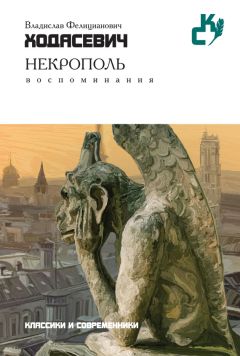Владислав Ходасевич - Некрополь
По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь - Ева, "бабища дебелая и румяная". Это - грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон - Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в "обителях навеки недостижимых и вовеки вожделенных".
Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя "земля Ойле". Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.
Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет мерцающий Маира
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной.
Бряцанья лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Маир.
Был ли сам он утешен своей "лестницей"? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно и, во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, "лестница" иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова - это уж непременно:
Кто смеется? Боги,
Дети да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,
Пусть смеются боги,
Дети да глупцы.
Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. "Нож да вилка есть, а нож резалка есть?" "Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?" "Она Селениточка - а на сел ниточка". Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если и видит, то страшные или злые.
***
Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. "Земное бремя - пространство, время" слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: "мелкого беса" видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. "Это он о себе", намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно : "Нет, мое милые современники, это о вас".
О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скоре - он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну.
Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в "Весах" о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, т. е. лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно- восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:
- Вы делаете мне больно.
И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил (8).
В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:
Быть с людьми - как бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?
Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем - суховатое обращение, - я как - то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу, в конечном счете, решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.
На Ойле, далекой и прекрасной,
Вся мечта и вся любовь моя...
На земле знавал он только несовершенный отсвет любви ойлейской.
***
Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил - и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал :
...Рассказать, чем сердце жило,
Чем болело и горело,
И кого оно любило,
И чего оно хотело.
Так мечтаешь хоть недолго
О далекой, об отцветшей.
Имя сладостное Волга
Сходно с именем ушедшей.
Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частию в Костроме, частию в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, "очеловеченные звери". Сологуб писал :
Снова саваны надели
Рощи, нивы и луга.
Надоели, надоели
Эти белые снега,
Эта мертвая пустыня,
Эта дремлющая тишь!
Отчего ж, душа - рабыня,
Ты на волю не летишь,
К буйным волнам океана,
К шумным стогнам городов,
На размах аэроплана,
В громыханье поездов,
Или, жажду жизни здешней
Горьким ядом утоля,
В край невинный, вечно - вешний,
В Элизийския поля?
Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить заграницу больных писателей : Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать.
Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете ?
Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок - поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times-е, а Сологуб - ненавистник пролетариата, автор контр- революционных памфлетов - и т. д.
Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержали. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны : когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста (9).
Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор - на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб "ужинает в незримом присутствии покойницы". В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны - у П. Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 г. - у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.
Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года - вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Не даром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни "пролетарского искусства" выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над "злою жизнью" :
Тирсис под сенью ив
Мечтает о Нанетте,
И голову склонив,
Выводить на мюзетте:
Любовью я, - тра, та, там, та, - томлюсь,
К могиле я, - тра, та, там, та, - клонюсь.
И эхо меж кустов,
Внимая воплям горя,
Не изменяет слов,
Напевам томным вторя:
Любовью я, - тра, та, там, та, - томлюсь,
К могиле я, - тра, та, там, та, - клонюсь...
Париж, январь 1928 г.