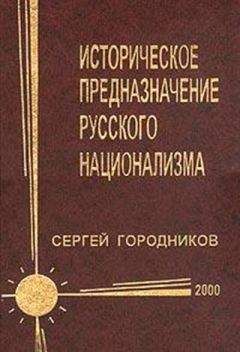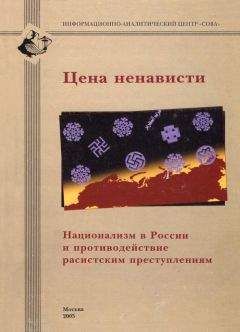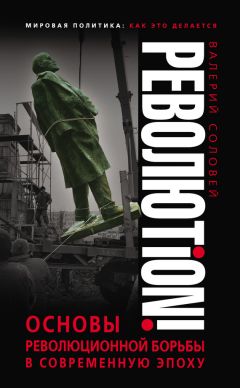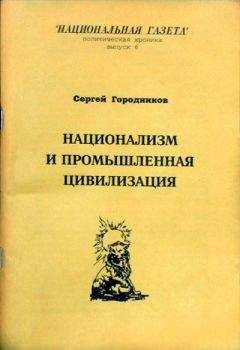Валерий Соловей - Несостоявшаяся революция
В то же время он не был мессианистом в славянофильском духе. Данилевский верил во всемирно-историческую миссию России, но в его трактовке она была ядром лишь одного из культурно-исторических типов. Хотя этот тип имел наибольший потенциал развития, вопрос о его реализации оставался открытым.
На первый взгляд, Данилевский был чужд самой постановке вопроса этнизации политии. Думаем, однако, она присутствовала у него (равным образом, как и у панславистов) в снятом виде и выносилась вовне. Этнизация Российской империи выглядела неизбежным и закономерным результатом оформления славяно-русского культурного исторического типа и агрессивной политики по образцу немецкой унификации. Внешнеполитическая доктрина панславизма носила, по существу, революционный характер, ибо была направлена в поддержку мятежного национализма против легитимного монархизма. По практическим и идеологическим соображениям подобная политика была категорически неприемлема для Российской империи.
131 Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Реферативный сборник / Сост. К. В. Ду-шенко. В 2-х вып. Вып. 1. М., 1991. С.61.
В том, что касается внутренней политики, панславизму был присущ заметный демократический аспект, но с несравненно более выраженным этнократическим оттенком, чем у ранних славянофилов. В этом смысле очень показателен предложенный министром внутренних дел графом Николаем Игнатьевым проект реанимации Земского
Собора (1882). В гипотетическом совещательном органе обеспечивался русский приоритет, в то же время ему отводилась пусть скромная, но все же некоторая роль в легитимации власти. Это был причудливый симбиоз архаичной славянофильской утопии с модернистским принципом национальности.
Так или иначе, олицетворяемое панславизмом «неосознанное стремление к нединастическому национализму»132 было вызовом принципу легитимизма и социальным устоям империи. По счастью для последней, панславистское влияние ограничивалось преимущественно образованными слоями общества, не задевая живые чувства массы простых русских, которым вряд ли была близка идея имперской экспансии.
В контексте рассматриваемой темы значение панславизма (а в более широком смысле — русского национализма последней трети XIX в.) состояло в том, что он вынес националистические идеи за пределы узкого интеллектуального круга и пытался внедрить их в широкие слои общества. В упоминавшейся типологии Мирослава Гроха это была стадия В национального возрождения.
Несомненно, однако, что влияние Федора Достоевского на образованные слои общества было несравненно более значительным, чем влияние мало читавшегося при жизни Константина Леонтьева, довольно популярного Николая Данилевского и вообще всех панславистов вместе взятых. Причем не столько романы, сколько политическая журналистика составила писателю заметную общественную репутацию среди современников. «"Дневник писателя" сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, да и не одной молодежи, а всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»133.
132 Оценка Г. Роггера цит. по: Хоскинг Джеффри. Россия: народ и империя
(1552-1917). Смоленск, 2000. С. 385.
133 Воспоминания Е.А. Штакеншнейдера цит. по: Лакер Уолтер. Указ. соч. С 42.
Но был ли Достоевский русским националистом в свете выдвинутых критериев? Хотя идеологическая классификация гениального писателя с развивавшимися и противоречивыми взглядами неизбежно носит условный характер, сопровождаясь рядом оговорок, рискнем ответить на этот вопрос утвердительно. И дело вовсе не в жгучем антисемитизме и антиполонизме Достоевского. Негативное отношение к чему-нибудь или кому-нибудь еще ничего не говорит о позитивных взглядах человека, о том, за что он выступает.
Одним из столпов мировоззрения Достоевского было признание первостепенной важности русской этничности, которую он вполне в славянофильском духе атрибутировал через православие. Более того, писатель влил новое вино в сморщившиеся мехи русского мессианизма. Он верил, что русский народ — «исключительное явление»: единственный народ-богоносец, воплощение Бога и спаситель мира. Русскую уникальность Достоевский проецировал в социополитичес-кую сферу: он выступал против попыток копирования Европы, ратовал за выработку форм и институтов, воплощающих национальную традицию.
Утверждения о национализме Достоевского нередко пытаются опровергнуть его знаменитой пушкинской речью и характерными для него оговорками об общечеловеческой миссии России, всемирной отзывчивости русских, братской любви к человечеству. Но, как говорил один из героев Александра Дюма-старшего, Писание завещало любить ближних своих, однако в нем нигде не сказано, что англичане — наши ближние. Невозможно поверить, что Достоевский видел в поляках и «жидах» братьев русского народа. Его ненависть к ним была вполне реальной, хотя во многом иррациональной, и даже призывы к «братской любви» не способны закамуфлировать подлинность этого чувства.
В конце концов, задача утверждения всеобщей гуманности и всемирно-исторического синтеза на основе русской духовности относилась Федором Михайловичем в очень далекое и туманное будущее. А в настоящем каждый народ не просто мог, но был обязан лелеять свою самобытность, ведь перестав считать себя единственным носителем истины, он переставал быть и великим народом. Однако абстрактное признание допустимости мессианских притязаний любого народа Достоевский ограничивал тем, что подлинным считал лишь русский мессианизм. В общем, почти по Оруэллу: все звери равны, но некоторые — равнее других.
Не была чужда писателю и идея этнизации имперской политии, хотя выраженная скорее в виде смутного намека. Ведь если Россия сильна союзом царя с народом, то для сохранения этого союза и предотвращения грядущей кровавой революции, в отношении которой Достоевский испытывал сильный страх, необходимо пойти навстречу народу, удовлетворить его чаяния.
Тем не менее эта мысль выражена настолько расплывчато, а концентрация Достоевского на религиозной и экзистенциалистской проблематике была столь всепоглощающей, что его намек не воспринимался как выражение политической оппозиции. Наиболее дальновидные правительственные консерваторы считали писателя своим союзником и оказывали ему поддержку.
Впрочем, даже приверженность лагерю правительственных консерваторов не гарантировала безопасности в случае обращения к националистическим идеям. Вот очень показательный и важный пример. Михаил Катков, ведущий публицист и газетный редактор 1860-1880-х гг., имел репутацию одного из столпов официального консерватизма. Кредо этого течения состояло в сохранении статус-кво и противодействии любым новациям, способным его нарушить. В то же время Катков был одним из ярких выразителей великодержавного, имперского национализма. Он настаивал на первенствующем характере русского народа в империи и требовал признать за ним право навязывать другим народам свою волю и систему правления, включая в том числе их ассимиляцию: «В России одна господствующая национальность, один господствующий язык, развитый веками исторической жизни»134.
Катков вдохновлялся английским опытом, который не был применим в России в силу качественного отличия континентальной империи от колониальной. Возможно, программа Каткова была осуществима в отношении небольших и слабо развитых этнических групп, но вряд ли применима даже к татарам, не говоря уже о поляках, финнах, немцах или евреях. Хотя после польского восстания 1863—1864 гг. пламенные инвективы Каткова в адрес поляков были эмоционально близки верховной власти и значительной части русского образованного общества, каким могло стать реалистическое решение польской проблемы? Можно было уничтожить Польшу как политическую и даже административную единицу, но невозможно было элиминировать польское национальное сознание и ассимилировать поляков. Недвусмысленные намеки Каткова на нерусский характер власти («русское правительство в своей политике принимает характер нерусский»135) были вызовом традиционной имперской политике поддержания баланса между этническими элитами империи.
134 Цит. по: Хоскинг Джеффри. Указ. соч. С. 388.
135 Там же.
Массированная газетная пропаганда Каткова за этнизацию империи создала ему одно время репутацию фрондера и вызвала немалый общественный резонанс. По существу эта линия была оппозиционна традиционным имперским устоям и неудивительно, что выпуск его газеты был на некоторое время приостановлен.
Может показаться, что правление Александра III воплотило в жизнь идеи Каткова, однако не стоит преувеличивать русификаторские масштабы и радикализм целей политики «царя-националиста». Ведь жизненный императив империи состоял в сохранении стабильности, а любая насильственная и масштабная ассимиляция в рус-скость эту стабильность неизбежно подрывала. Поэтому политика русификации проводилась непоследовательно и ситуативно — там и тогда, где и когда она укрепляла стабильность, и сворачивалась, если стабильность оказывалась под угрозой.