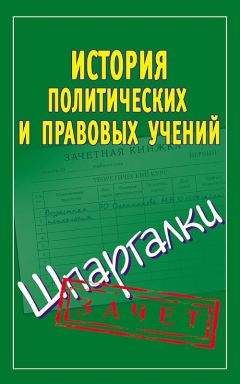Роберт Конквест - Большой террор. Книга II.
Повсюду было переполнено и тесно. В. Кравченко в бытность директором завода в Кемерово, договаривался с НКВД о поставке заводу двух тысяч зэков.[346] Трудность состояла не в том, где их взять, а в том, как разместить их по имевшимся в округе лагерям. Хозяйственникам показали лагерь, где, казалось, яблоку негде было упасть — но комендант этого лагеря согласился со своим начальником, что можно устроить в бараках дополнительный ярус нар и втиснуть еще больше заключенных.
В бараках имелись печи, но они не могли дать достаточно тепла этим хибарам, наскоро построенным в Арктике. К тому же «дают дневальным на каждую печку по пять килограмм угольной пыли, от нее тепла не дождешься», пишет Солженицын.[347] И он же рассказывает еще об одной принадлежности барака: «Тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди зынеси, не пролья!».[348]
Не считая воров-блатных, которые в нештрафных лагерях хозяйничали, как хотели, заключенные представляли собой разношерстный набор «политиков». Непременно были «вредители»- специалисты, инженеры. На первых порах они использовались на технических работах, но когда террор принял массовый характер, в лагерях оказалось столько инженеров и вообще специалистов, что шансы получить техническую должность (чем многие до того спасались от верной смерти) стали пропорционально ниже.
В рассказе о лагерях Джезказгана[349] в числе заключенных упоминаются бывший член коллегии ЧК и посол в Китае, солист Большого театра, неграмотные мужики и генерал ВВС. Обычными категориями заключенных были бывшие военнослужащие, интеллигенты, а как особые категории «националы» (национальные меньшинства, украинцы и другие) и «религиозники» (активные верующие и члены сект). Солженицын указывает, что баптисты попадали в лагерь иногда просто за молитву. За это в те времена, о которых он пишет, «всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка».[350] Есть многочисленные сообщения о сектантах, избитых или посаженных в карцер за отказ от работы в воскресенье.[351] В 1937 году в лагере видели священника, потерявшего зрение от побоев.[352]
Как во все времена бед и притеснений, в те годы процветали хилиастические секты. Подобные же голоса — от имени угнетенных и потерявших надежду — доносятся до нас из эпох великих рабовладельческих империй. В годы террора некоторые секты проповедывали, что переживаемые ужасы ниспосланы Богом как испытание и что из униженного и деморализованного русского народа поднимается народ святых. В ноябре 1965 года на Воркуте все еще оставалось больше религиозных общин различного толка, чем в других районах страны.[353] Неудивительно: ведь на Воркуте осели бывшие заключенные тамошних лагерей и среди них много людей с обостренными религиозными и национальными чувствами.
Права заключенных были практически сведены к разрешению подавать письменные жалобы и заявления. Результат (по Солженицыну): «Ждут, время считают: вот через два месяца, вот через месяц ответ придет. А его нету. Или: „отказать“».[354] К тому же начальство недолюбливало тех, кто надоедал ему жалобами.
Однако в каторжных лагерях была определенная свобода слова:
«А в комнате орут:
— Пожалеет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!
Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза. В устьижменском скажешь шопотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули.
Только некогда здесь много толковать.».[355]
Многие воспоминания бывших лагерников содержат рассказы о заключенных, оставшихся преданными партии и правительству и объяснявших свой арест ошибкой.[356] Обычно такие «преданные» основательно раздражали других заключенных. В некоторых случаях — хотя и не всегда — эти люди становились доносчиками, стукачами. Так или иначе обычная практика НКВД состояла в том, чтобы иметь много стукачей. Тех из них, кого разоблачали, рано или поздно убивали в лагерях. Если лагерное начальство не успевало вовремя убрать стукача из зоны, то по поводу его смерти шума обычно не поднимали. В книге Герлинга есть рассказ о бывшем известном следователе НКВД, который попал в лагерь и был там опознан. Его поначалу сильно избили, однако не убили до смерти; он бросился искать защиты у надзирателей, но те ничего не предприняли для его спасения, и через месяц, после бесконечных издевательств и напрасных попыток жаловаться, его прикончили.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Побудка, как сообщает большинство очевидцев, давалась обычно в пять утра ударами молотка о кусок рельса, висевший перед надзирательской. Любой заключенный, которого через несколько минут после побудки заставали еще на койке, мог получить на месте несколько суток штрафного изолятора. Зимой в этот час еще темно. Прожектора «били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек».[357] Помимо колючей проволоки и охранников на вышках, во многих лагерях использовали для охраны еще и собак. Их длинные цепи заканчивались кольцами, и кольца эти скользили по проволоке, натянутой между вышками. Скрежет этих колец по проволоке вспоминается многими бывшими заключенными как непрерывный звуковой фон.[358]
Первой заботой заключенных на протяжении всего дня была пища. Утром раздавался завтрак — наиболее приятная часть дневного рациона (позже мы подробнее рассмотрим питание заключенных — центральный момент всей системы норм и ключ к сталинским расчетам на эффективный рабский труд).
Затем происходил развод на работу. Заключенных выводили из лагерной зоны бригадами, обычно по двадцать-тридцать человек в каждой. Звучало предупреждение («молитва») конвоя:
«Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения! Направляющий, шагом марш!».[359]
«Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином».[360] Люди так недосыпали, что как только находили уголок потеплей, их сразу бросало в сон. Если воскресенье бывало свободным днем (а таковым бывало не каждое воскресенье), то люди спали, сколько могли.[361]
С обувью, как свидетельствует Солженицын, ситуация могла меняться. «Бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный)».[362] Одежду без конца латали и чинили: «заключенные… одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза».[363]
По многим воспоминаниям, язвы на теле — следствие грязной одежды — были общим явлением. Одежда время от времени подвергалась дезинфекции, когда заключенных водили в баню. В лагере, где сидел солженицынский Иван Денисович, баня была примерно раз в две недели.[364] Но часто для мытья и стирки белья не оказывалось мыла.[365]
Можно было заявить о плохом самочувствии и получить освобождение от работы на один день. Но если уж заключенного признавали больным и выписывали ему больничное питание — это обычно означало, что жить такому человеку оставалось недолго. Впрочем, освобождение на день тоже зависело не только от состояния здоровья — была еще и квота: «Но право ему было дано освободить утром только двух человек — и двух он уже освободил».[366] Евгения Гинзбург вспоминает, что освобождение от работы лекарь давал, «начиная с 38 градусов и выше».[367]
В книге Далина и Николаевского есть такое описание медосмотра в строящемся лагере:
«Нарядчик и лекпом, вооруженные палками, входят в землянку. Начальник спрашивает первого встречного, почему тот не выходит. „Я болен“ — следует ответ. Лекпом пробует пульс и определяет, что человек здоров. На заключенного обрушивается град ударов, его выбрасывают наружу. „Почему не идешь на работу?“ — спрашивает;
следующего. „Болен“ — все тот же упрямый ответ. Накануне этот заключенный был у лекпома и отдал ему последнюю вшивую рубаху. Теперь лекпом считает пульс и находит высокую температуру. Человек освобожден. Третий заключенный отвечает, что у него нет ни одежды, ни обуви. „Возьмите одежду и обувь у больного“ — нравоучительно приказывает начальник. Больной протестует, и его вещи стаскивают силой».[368]