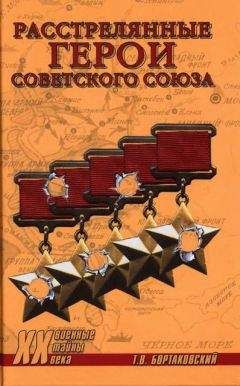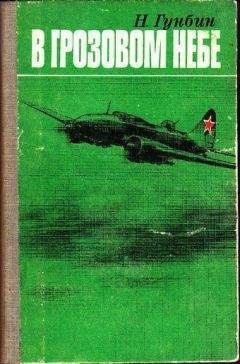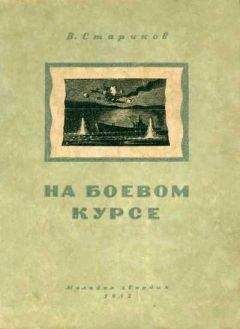Натан Эйдельман - Твой восемнадцатый век
Пушкин в начале 1830-х годов обратился к пугачевским делам, прежде всего чтобы понять дух и стремление простого народа, чтобы увидеть «крестьянский бунт»; но к тому же поэта, очевидно, притягивали лихость, безумная отвага, талантливость Пугачева, в чем-то родственные пушкинскому духу и дару… Мы, однако, далековато отвлеклись от наших 1770-х…
Февраль 1772-го. Власти перехватывают Пугачева в начале пути с Терека в Петербург, и царица Екатерина лишилась шанса принять казацкое прошение от своего (в скором времени) «беглого супруга, амператора Петра Федаровича»…
Второй арест, и тут же четвертый побег: Пугачев сговорился с караульным солдатом — слово знал…
Он является в родную станицу, но близкие доносят; и вот уж следует третий арест, а там и пятый побег: опять — сагитировал казачков!
Затем, до конца 1772 года, странствия: под Белгород, по Украине, в Польшу, снова на Дон, через Волгу, на Урал.
В раскольничьих скитах Пугачев представляется старообрядцем, страдающим за веру; возвращаясь из Польши, удачно прикидывается впервые пришедшим в Россию; старого казака убеждает, что он «заграничной торговой (человек), и жил двенадцать лет в Царьграде, и там построил русский монастырь, и много русских выкупал из-под турецкого ига и на Русь отпускал. На границе у меня много оставлено товару запечатанного».
Скитания, тип российского скитальца, которым столь интересовались лучшие писатели, скитальца-интеллигента, бродяги-мужика… Пушкин позже писал о российской истории, полной «кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов».
В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и, сверх того, артистический дар, склонность к игре, авантюре.
Пугачев играл великую отчаянную трагическую игру, где ставка была простая: жизнь…
ПЕРЕД 1773-мПриближается год, где в конце сентября начинался наш рассказ. Пугачев по-прежнему еще и знать не знает о главной своей роли, которую начнет играть очень и очень скоро. Не знает, но, возможно, уже предчувствует: в Заволжье и на Урале многое узнает о восстаниях крестьян и яицких казаков, о тени Петра III, являющейся то в одном, то в другом самозваном образе.
Все это (мы можем только гадать о деталях) как-то молниеносно сходится в уме отчаянного, свободного казака.
И тут опять нельзя удержаться от комментариев.
Свобода! То, о чем мечтали миллионы крепостных… Казаки, однако, имеют ее несравненно больше, чем мужики, которые могут лишь мечтать о донских или яицких вольностях и постоянно реализуют мечту уходом, побегом на край империи, в казаки.
Но взглянем на карты главных крестьянских движений, народных войн XVII–XVIII столетий.
Восстание Болотникова начинается на юго-западной окраине, среди казаков и беглых; Разин и Булавин — на Дону; Пугачев сам с Дона, но поднимает недовольных на Яике, Урале, — юго-восточной казачьей окраине.
Таким образом, все главные народные войны зажигаются не в самых задавленных, угнетенных краях, таких, скажем, как Черноземный центр, среднее Поволжье, нет! Они возникают в зонах относительно свободных, и уж потом, с казачьих мест, пожар переносится в мужицкие, закрепощенные губернии.
Оказывается, для того, чтобы восстать, чтобы начать, уже нужна известная свобода, которой не хватает подавленному помещичьему рабу…
Итак, на пороге 1773 года Емельян Пугачев на Южном Урале, где хочет возглавить большой уход яицких казаков за Кубань, в турецкую сторону…
И снова, как не задуматься о путях исторических? Может быть, многое повернулось бы иначе, если бы Пугачев успел и во главе недовольных ушел на юг и запад.
Однако, когда изучаешь события задним числом, два века спустя, иногда представляется, будто какая-то таинственная, неведомая сила поправляла казака, готового «сбиться с пути», и посылала его туда, где он сотворит нечто самое страшное и фантастическое.
Близ Рождества 1773 года следует четвертый арест (опять донес один из своих!). На этот раз дело пахнет кнутом и Сибирью. Однако арестанта снова выручает блестящий артистизм, мастерское умение овладевать душами. В Казани (тюрьма и цепи) Пугачев успевает внушить уважение и любовь другим арестантам, влиятельным старообрядцам, купцам, наконец, солдатам. К тому же слух об арестованной «важной персоне» создавал атмосферу тайны и возможных будущих откровений. Любопытно, что это ощущают тысячи жителей Казани и округи, но совершенно не замечает казанский губернатор Брандт; он не понимает, сколь эффектно может выглядеть в глазах затаившихся подданных некий арестант «весьма подлого состояния». Более того, губернатор уверен, что идеи Пугачева (увестиуральских казаков и прочее) — «больше презрения, нежели уважения достойны».
И вот шестой побег, опять узник и охранник вместе: 29 мая 1773 года. Ровно за четыре месяца до петербургской свадьбы.
Летом 1773 года Пугачев исчезает — появляется Петр III.
Отчего же выбран именно этот слабый, по-видимому, ничтожный царь, не просидевший на троне и полугода?
А вот именно потому, что Петр III не успел «примелькаться», остался как бы абстрактной, алгебраической величиной, которой можно при желании дать любое конкретное значение.
В работах К. В. Чистова, Р. В. Овчинникова, H. H. Покровского, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и ряде других народное «царистское» сознание было тщательно изучено.
Царь, по исторически сложившимся народным понятиям, «всегда прав и благ»; если же он не прав и не благ, значит — не настоящий, подмененный, самозваный; настоящему же, значит, самое время появиться в гуще народа — в виде царевича Дмитрия, Петра III, царя Константина… Петр III, всем известно, дал вольность дворянству в 1762-м, потом его свергли, говорят, будто убили: разве непонятно, что свергли за то, что после вольности дворянской приготовил вольность крестьянскую, — но министры и неверная жена все скрыли, «хорошего царя», конечно, не хотели, и тот скрылся, а вот теперь объявился на Урале.
СЕНТЯБРЬВ ночь на 15 сентября, в ста верстах от Яицкого городка, Пугачев входит в казачий круг из шестидесяти человек и говорит: «Я точно государь… Я знаю, что вы все обижены и лишают вас всей вашей привилегии и всю вашу вольность истребляют, а напротив того, Бог вручает мне царство по-прежнему, то я намерен вашу вольность восстановить и дать вам благоденствие».
Тут же, в подкрепление этих слов, грамотный казак Почиталин громко читает тот «именной указ», который был приведен в начале нашего повествования.
«Таперь, детушки, — объявляет царь, — поезжайте по домам и разошлите от себя по форпостам и объявите, што вы давеча слышали, как читали, да и што я здесь… а завтра рано, севши на коня, приезжайте все сюда ко мне».
«Слышим, батюшка, и все исполним и пошлем как к казакам, так и к калмыкам», — отвечали казаки.
Вот как выглядело начало дела по записи следователей. И как все просто: «Я точно государь… Слышим, батюшка, и все исполним».
А на самом деле какое напряжение между двумя половинами фразы: сказал — поверили!
Что же, сразу, не сомневаясь, увидели в Пугачеве Петра III? И после — не усомнились?
Вопрос непростой: если б не поверили, разве бы пошли на смерть?
Но неужели смышленым казакам не видно было за версту, что это — свой брат, такой же, как они, пусть — умнее, речистее, быстрее?.. И разве мог Пугачев долго скрывать от всех приближенных, например, свою неграмотность?
Царям, правда, не положено самим читать и писать: для того и слуги, но все же нужно уметь хоть подписаться под указом.
Пугачев, мы знаем, однажды все-таки начертал грамотку своей рукой: первые пришедшие в голову черточки и загогулины. Для большинства его окружавших вроде бы достаточно, но пугачевские министры, «военная коллегия», созданная при государе, — Хлопуша, Белобородов, Зарубин, Почиталин, Шигаев, Перфильев, — будто уж они так и верили, что служат Петру III? И разве не знали, что по городам и весям царские гонцы объявили: государевым именем называет себя «вор и разбойник Емелька Пугачев»?
В сложных случаях полезно посоветоваться с Пушкиным.
В «Капитанской дочке» мы не находим никаких «маскарадных сцен», где Пугачев боится разоблачения или размышляет о способах маскировки. Да и ближние казаки, «генералы», хоть и кланяются, величают великим государем, вроде бы совсем не мучаются сомнениями, самозванец над ними или нет.
Принимают, каков есть.
Впрочем, в «Истории Пугачева» Пушкин рассказывает об двух удачных приемах, которыми Пугачев многих убедил.
Во-первых, показал «царские знаки»: хорошо знал наивную народную веру, будто царя можно отличить по каким-то особым следам на теле (в форме креста или иначе).
Вторая же история относится к тем сентябрьским дням, когда в Петербурге разворачивались свадебные торжества, а весть о «Петре III» еще не дошла до царицы.