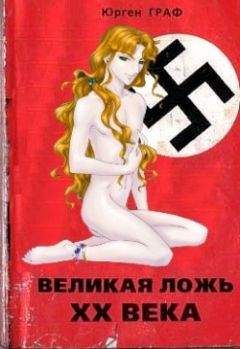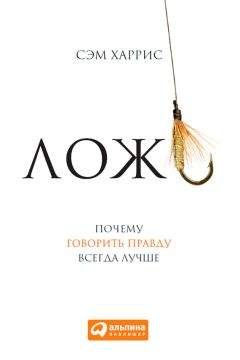Константин Победоносцев - Великая ложь нашего времени
Вот что говорит англичанин, глубокий знаток своей истории и глубокий мыслитель. Мысль невольно переносится к несчастному учреждению суда присяжных в тех странах, где нет тех исторических и культурных условий, при коих он образовался в Англии. Очевидно, многие, вводя это учреждение, только «слышали звон, да не знали, где он». Неразумно и легкомысленно было вверять приговор о вине подсудимого народному правосудию, не обдумав практических мер и способов, как его поставить в надлежащую дисциплину, и не озаботившись исследовать предварительно чужеземное учреждение в истории его родины, и со сложною его обстановкой.
И вот, по прошествии долголетнего опыта, всюду, где введен с примера Англии суд присяжных, возникают уже вопросы о том, как заменить его, для устранения той случайности приговоров, которая из года в год усиливается. Эти вопросы возникают и обостряются и в тех государствах, где есть крепкое судебное сословие, веками воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практической дисциплины.
Можно себе представить, во что обращается это народное правосудие там, где, в юном государстве, нет и этой крепкой руководящей силы, но в замен того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти сам собою помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, для того, чтобы действовать на массу; где действует пестрое, смешанное стадо присяжных, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки: наконец — смешанная толпа публики, приходящей на суд как на зрелище, посреди праздной и бедной содержанием жизни; и эта публика, в сознании идеалистов, должна означать народ. Мудрено ли, что в такой обстановке оказывается тот же печальный результат, на который указывают вышеприведенные слова Чарльза Мэна: «присяжные слепо тянут со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумеет на них подействовать».
ХАРАКТЕРЫ
оварищ мой, Никандр, был для меня еще в училище предметом удивления. Казалось, ничего не было загадочного в его натуре, однако ж я никак не мог разгадать ее и с нею освоиться. Казалось, подойти к нему мог всякий, легко и удобно, но всякий раз, как мне случалось близко подходить к нему, я чувствовал, что между ним и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже сузить, что дальше идти уже некуда. Он был хорош со всеми, и все хороши с ним; он принимал участие во всем, что нас всех занимало и волновало, и, казалось, способен был все понять и говорить обо всем со всяким; но не видать было, чтоб он чему-нибудь отдавался, увлекался чем-нибудь. Когда беседа состояла из соблазнительных анекдотов, и у него был в запасе свой анекдот, то он звучал каким-то извне принесенным звуком; когда велись серьезные речи, вставлял и он свое верное слово; когда кружок либеральничал, и он не оставался в долгу либеральной фразой; но она точно из книги была вынута. Когда мы все попадались в так называемую историю, и вода выступала у всех выше головы, и он не отставал от нас — упрекнуть его нельзя было, даже в прямой трусости, — но странное дело! когда вода сбывала, он выходил сух из нее и отряхался в минуту, тогда как мы все выходили мокрые и помятые.
Нельзя сказать, чтоб его не любили; но и сердечных друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни в ком случайно сказанное им слово не будило души и не поднимало мысли; но все считали его способным человеком; и хотя он был постоянно в успехе, успехи его почти ни в ком не возбуждали зависти. Он занимался прилежно, хотя не принадлежал к числу так называемых зубрил, и успешные ответы его давались ему, по-видимому, без особенных усилий. Не помнили, чтоб он когда-нибудь срезался в своих ответах: так все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звездой всего нашего класса, его выставляли вперед в показных случаях, о нем говорили, как о человеке, который пойдет далеко. Начальство наше было в восторге от его ответов, от его сочинений, от того, как он держал себя, от его приличного и обчищенного во всем внешнего вида и поведения. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочинения его, и ответы: я удивлялся только круглоте и гладкости, с которой все у него бывало обделано и налажено; но все, что он говорил, оставляло во мне какое-то впечатление неполноты, недостаточности: точно завтрак, прекрасно сервированный, из-за которого гость встает голодным.
Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандр пошел быстрыми шагами в служебной карьере. Через несколько лет, приехав в столицу, я застал его на значительном месте. И тут, по службе, имя Никандра звучало беспрестанно в устах у начальства с восторженной похвалой. Отовсюду слышалось: какой способный человек! Какое у него перо! И подлинно, по общему отзыву, Никандр обладал мастерством изложения, которое особенно ценил его начальник. Но я опять становился в тупик перед изложением Никандра и всеобщими похвалами, когда случалось мне читать бумаги, им писанные. Бумаги эти производили на меня то же впечатление, как и ответы его на экзаменах, — впечатление прекрасно сервированного завтрака, на котором есть нечего. Меня томил голод, а другие оказывались сытыми и довольными. В бумагах Никандра, в записках и докладах его выказывалось для меня ясно только уменье его, действительно мастерское, притупить и обольстить вкус, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель упускал из виду сущность и корень дела, сосредоточивал интерес свой на оболочке, на побочных и формальных его принадлежностях, на тех путях, по которым дело следует от истока своего до впадения; таким образом искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливого читателя до потребного результата, отмечая ту точку, к которой требовалось на сей раз прибуксировать дело. Казалось, все так ясно изложено было в обточенных фразах, но в сущности ничто не было ясно, все прикрывалось туманом; а дело, по бумаге, в конце концов обделывалось — е sempre Ьепе.
Прожив еще несколько лет в своем углу, куда достигали от времени до времени новые хвалебные слухи о способностях Никандра, я снова приехал в столицу, и застал его на новом месте, еще более значительном. Тут пришлось мне быть свидетелем его деятельности и дивиться снова его умению, хотя оно не переставало казаться мне странным искусством. Но сам я, став уже старше годами и опытом, начал понимать, что много есть вещей в деловом мире, о которых не смеет и мечтать юношеская философия. Черты Никандровой физиономии стали выясняться передо мной, и он стал для меня любопытным предметом изучения уже не сам но себе, а в нераздельной связи с той средой, в которой совершалась его деятельность. Он говорит немного, но внимательно слушает: внимательно, хотя, по-видимому, равнодушно. Редко можно подметить в чертах лица его выражение оживленного участия: видишь иногда чуть-чуть тонкую тень беспокойства, когда рассуждения принимают тревожный характер, когда обнаруживается резкое различие в мнениях. Это беспокойство переходит даже в некоторое волнение, когда при разноречии затрагиваются и возбуждаются вопросы деликатного свойства, особенно когда спор угрожает повести к одному из явлений, носящих название скандала. Все инстинкты Никандра направлены к изглажению всякой неровности в характерах, в ощущениях, в мнениях, к погашению всякого пререкания, к водворению согласия и спокойствия повсюду. Он уже тревожится, когда рассуждение начинает проникать в глубь предмета, когда оно пытается свести отдельные вопросы к общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласие в основной идее — всего упорнее и раздражительнее, он пускает в ход всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, с какой ловкостью старается он тогда свести противников с опасного поля и перевести их на другое, ровное и гладкое поле бирюлек, мелочей, подробностей и частностей дела. На этом гладком поле он господин: тут небольшого уже труда стоит ему уверить спорщиков, что они в сущности согласны между собой, что не стоит им возбуждать вопросы, не имеющие существенного значения. На этом поле я не видал мастера, подобного Никандру, и подвиги его поразительны! Он умеет поставить перед собой противников, которых разделяет, по-видимому, непроходимая бездна коренного противоречия в основных мнениях о предмете: борьба происходит, по-видимому, между элементами, и кажется непримиримой. И что же, глядишь, в какие-нибудь десять минут Никандр успел наполнить эту бездну легким пухом, прикрыть ее тонким хворостом, — и противники уже переходят по ней, подавая друг другу руку! Никандр не любит основных идей; но недаром он опытен. Он знает, что основные идеи лежат большей частью в умах неглубоко, и почти всегда есть возможность отвести от глубины неуверенную мысль или смутное ощущение, стремящиеся в глубину. Для этого есть у него прием, который редко изменяет ему: против основных идей он умеет в крайнем случае выставить так называемые принципы, общие положения, решительные приговоры, на которые редко кто посмеет возразить. Есть волшебные слова, которыми очаровывается у нас всякое совещание — и Никандр умеет произносить их в нужную минуту. Такое словечко, вроде классического Quos ego — мигом успокаивает у нас поднявшиеся волны. «Всеми признано уже ныне», «новейшая цивилизация дошла до такого-то вывода», «статистические цифры доказывают», «во Франции, в Пруссии и т. п. давно уже введено такое-то правило», «такой-то европейский ученый, на такой-то странице, сказал то-то», «никто уже ныне не спорит, напр., что цена определяется пропорцией между спросом и предложением», и множество тому подобных изречений — вот волшебные орудия, творящие чудеса в наших рассуждениях. Но самое волшебное из волшебных слов — это: «наука говорит, в науке признано». Никандр давно уже понял, что этого слова — наука — мы боимся как черта и не смеем обыкновенно возражать на него. Мы чувствуем, что это палка о двух концах, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда нам ее предлагают. Возражать на это слово — наука — да ведь это значит возбуждать вопросы: какая наука, где она, откуда, почему, — и множество других, о которых конца не будет спору, и в которых мы чувствуем, что без конца перепутаемся. И так обыкновенно мы останавливаемся на этом слове, успокаиваемся и принимаем готовый результат науки, который предлагают нам, не мудрствуя лукаво о том, кто и по какому случаю и в каком смысле предлагает.