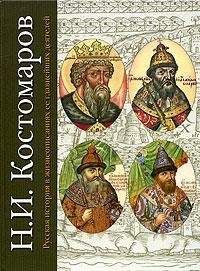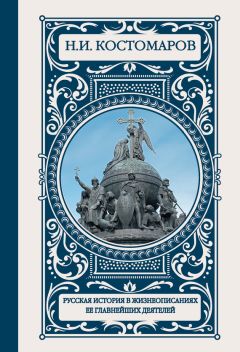Николай Костомаров - История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел
В самом деле, Анна Ивановна уже несколько месяцев сряду боялась призрака смерти и даже запретила возить мертвых мимо ее дворца. Принцесса Анна, передавая все это Менгдену, сочла нужным присовокупить, что ей, впрочем, неприятным не будет, если императрица назначит герцога регентом или вообще даст ему после себя какое-либо участие в верховном правительстве.
Бирон, всегда близкий к особе императрицы и беспрестанно посещавший больную, сколько раз ни пытался направить ее к тому, чтобы она сама изъявила ему желание окончить дело о регентстве, — не достигал своей цели.
Однажды по этому поводу императрица сказала ему: «Жаль мне тебя, Бирон, без меня тебе не будет счастья». Наконец, 16 октября, когда императрице стало очень худо и присутствовавшие ожидали скорой кончины, ему-таки удалось ввести к императрице Остермана: не знаем подлинно, сам ли Остерман явился или императрица его потребовала. Тут она вынула из-под изголовья духовную и подписала. Тогда Остерман и Бирон вышли из царской опочивальни с торжествующим видом, и Бирон воскликнул, обращаясь к своим угодникам: «Господа! Вы поступили как древние римляне!»
Что хотел сказать этим курляндский герцог — мы не знаем. Так рассказывает сын фельдмаршала Миниха.
По словам самого герцога курляндского, в его записке, посланной из места своей ссылки в Ярославле императрице Елисавете, дело было так: Бирон, вошедши в опочивальню императрицы, застал там Остермана. Государыня держала в руках духовную и готовилась ее подписывать. Бирон умолял ее не делать этого, представляя, что отказ государыни подписать этот документ будет награждением за всю многолетнюю службу его императрице. Государыня, послушав любимца, положила бумагу снова под изголовье. В течение нескольких дней после того он отклонял императрицу от исполнения этого замысла. Наконец, тринадцать знатнейших сановников вошли в ее опочивальню и подали просьбу, подписанную уже 190 лицами: из этой просьбы государыня могла уведать о всеобщем желании видеть ее любимца регентом Российского государства, во время малолетства будущего императора Ивана Антоновича. Тогда императрица Анна Ивановна приказала позвать Остермана и подписала духовную, а подписавши, отдала постоянно находившейся при ее особе подполковнице Юшковой, которая спрятала этот важный документ в шкаф с драгоценностями.
В последующие затем часы здоровье императрицы являлось все более и более безнадежным. 17 октября, в пятницу около полудня почувствовала больная, что у нее отнялась нога. К ней вошли принцессы Анна Леопольдовна и Елисавета Петровна. Императрица, будучи еще в полном сознании, говорила, прощалась с ними. К вечеру сделались с нею такие мучительные припадки, что видевшие их не могли не пожелать, чтобы Бог скорейшей кончиной избавил страдалицу от таких мук. В девять часов явилось придворное духовенство с певчими. За ним вступила в опочивальню толпа близких к государыне вельмож. Совершался обряд соборования елеем. Императрица, проводя взорами по толпе господ, наполнивших комнату, заметила Миниха и сказала ему: «Прощай, фельдмаршал!» Потом, обводя угасавшие глаза по другим и уже не будучи в силах распознать кого-нибудь, она произнесла: «Все, прощайте!» С этими словами императрица испустила дыхание.
По кончине Анны Ивановны ее опочивальня представляла такое зрелище. На постели лежал еще не остывший труп. Кругом ходили близкие к покойной государыне особы. В углу в креслах сидела принцесса Анна и заливалась слезами. За спинкой кресла ее стоял ее супруг с нахмуренным видом. Бирон, как исступленный, метался перед постелью, наконец обратился к присутствующим в комнате и предложил всем узнать последнюю волю императрицы. Подполковница Юшкова объявила, что покойница вручила ей бумагу, лежавшую у нее под изголовьем, приказала ее хранить в шкафу, где сберегались драгоценные уборы, а после ее кончины предъявить для всеобщего сведения. По словам императрицы, это была очень важная по своему содержанию бумага. Но Юшковой было запрещено сделать кому бы то ни было даже намек на существование этой бумаги, прежде чем императрица не скончается. Кроме Остермана и Бирона, никто не знал о подписании императрицею духовной, в которой Бирон назначался регентом. Вельможи, постоянно вращавшиеся при дворе, не ясно знали о последней воле императрицы. При входе в опочивальню кн. Куракин спросил Остермана: «Кто же после государыни будет ее преемником на престоле?» — «Принц Иван Антонович!» — отвечал Остерман, но о регентстве ни Остерман Куракину не говорил, ни кн. Куракин Остермана не спрашивал.
Открыт был указанный Юшковою шкаф с бриллиантами; достали духовную, освидетельствовали целость печати, приложенной на конверте Остерманом; открыли конверт. Тогда Бирон учтиво и лукаво обратился к супругу принцессы Анны и сказал ему:
— Не угодно ли, принц, слушать последнюю волю усопшей императрицы?
Принц молча подошел к кружку, собравшемуся около князя Трубецкого; тот держал в руке свечу и готовился читать бумагу, которой составителем был сам вместе с двумя другими. Принц выслушал духовную, которая, по замечанию Миниха-сына, была его приговором, потом вместе с супругою удалился в свои покои, не сказавши никому ни слова.
На другой день, 18 октября в субботу, утром, съехались во дворец знатнейшие духовные и светские сановники, сенаторы, генералы; войска были расставлены под ружьем у Летнего дворца. Объявлено было завещание императрицы, назначавшее герцога курляндского правителем империи до совершеннолетия нового государя, императора Ивана Антоновича. Все присягали на верность новому императору. Бирон лично принимал поздравления со вступлением в сан верховного правителя Российской империи. Все было чрезвычайно спокойно. Англичанин, бывший тогда в Петербурге представителем своего правительства, не без удивления заметил, что все остается спокойным, как будто ничего чрезвычайного не происходило; он приписывает это всеобщему доверию русских к достоинствам герцога курляндского. Англичанин ошибался, как иностранец, обольщаясь наружною тишиною, не в силах будучи уразуметь, что то была тишина пред бурей.
Принц и принцесса переехали в Зимний дворец, куда, разумеется, перевезли и малолетнего императора. Герцог оставался в Летнем дворце, намереваясь не покидать его до погребения тела усопшей государыни. Одним из первых дел его, как регента, было назначение пенсии в 200000 р. принцессе брауншвейгской и ее супругу, а цесаревне Елисавете Петровне 50000 р. в год. Со своей стороны, сенат поднес ему титул высочества и назначил ежегодную пенсию в 500000 р. Это казалось очень много, так как родители царя получали менее, а Бирон не был в нужде: он владел доходами в четыре миллиона со своих имений в Германии.
Тут открывается ряд доносов, а за ними, естественно, пошли аресты, допросы и пытки. Герцог курляндский сразу увидал, что против него может подняться сильная партия и его положение вовсе не так прочно, как представляли ему его угодники. Сперва попались двое гвардейских офицеров, капитан Ханыков и поручик Аргамаков: они возбуждали между товарищами по службе и подчиненными недовольство — зачем герцог курляндский, а не родители императора, облечен верховной властью. За ними попался подполковник Пустошкин. Он являлся к графу Головкину и сообщал, что у шляхетства, а преимущественно у офицеров, существует желание подать челобитную о назначении регентом вместо герцога курляндского принца брауншвейгского, родителя государева. Головкин был еще при жизни императрицы в дурных отношениях к Бирону, это все знали и оттого к нему обратились. Но Головкин в это время собирался уезжать за границу, не хотел вмешиваться ни в какие государственные дела, и хотя отнесся очень дружелюбно к Пустошкину, но советовал ему обратиться к князю Черкасскому. Князь Черкасский также любезно принял Пустошкина, но, еще не отпуская из своего дома, дал знать Бестужеву, который немедленно явился сам к князю Черкасскому и захватил Пустошкина с товарищами. Как всегда бывает в подобных случаях, когда арестуют одного или двух и начнут их спрашивать, то их ответы потянут еще новых прикосновенных, и число обвиняемых и подозреваемых увеличивается, как снеговая глыба, когда ее катят по снежному пространству. Таким образом, по показаниям взятых под караул, взяты были еще секретарь принцессы Анны Семенов, а за ним кабинет-секретарь Андрей Яковлев. Последний в допросе объявил, что, переодевшись в дурном платье, он ходил ночью по Невской Перспективе и прислушивался к народным толкам. Он услыхал в народе ропот против назначения иноземца Бирона регентом государства и желание, чтоб эта важная должность была передана родителям императора. Тогда же открылось, что принц брауншвейгский с удовольствием слушал офицеров, говоривших перед ним, что его следует сделать регентом, и со своей стороны изъявлял сомнение в подлинности завещания покойной императрицы. Обвиненных посадили в крепость в дурных помещениях и подвергали в тайной канцелярии допросам и пыткам. 22 октября регент отправился лично к принцу Антону-Ульриху. «Вы, принц, — говорил ему регент, — дозволили в своем присутствии осуждать распоряжения покойной государыни и доказывать, что с меня следует снять носимый мною сан регента и передать его вам. Вы не остановили таких дерзких речей и не изъявили к ним вашего неодобрения. Знаете ли, что я вам скажу: вы хотя и родитель нашего императора, но вы все-таки его подданный и обязаны ему верностью и повиновением, наравне с прочими его подданными. Очень сожалею, что, в качестве регента, которому вверено спокойствие империи, я нахожусь в необходимости напомнить об этом вашему высочеству».