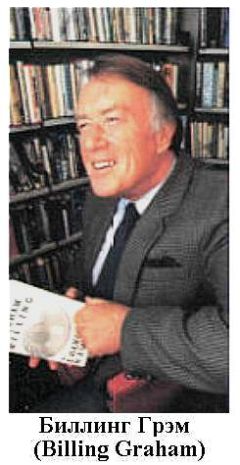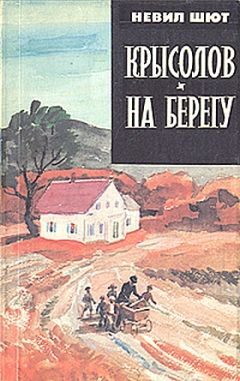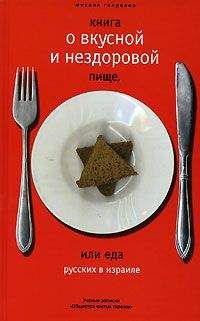Грэм Биллинг - Один в Антарктике
Форбэш сварил себе похлебку из мясных кубиков, приправленную пряностями, извлеченными из аварийного пайка. Похлебка была чересчур горячей, он обжигался, но все равно хлебал с наслаждением, потел, положив локти на тиковый стол, некогда служивший на "Нимвроде" дверью. Словно пингвин, страшащийся поморника, парящего над ним, Форбэш поглядывал из окна на небо всякий раз, как буран снова хватал хижину в свои лапы.
"Теперь-то я пришел в себя, - думал он. - Знаю, что мне нужно делать. Я сумею выйти из этого положения. Мне плевать, сколько будет свирепствовать этот проклятый ураган. Я одолею его. Он мне ничего не сможет сделать. Я вытерплю. Ведь я человек. Я живой, а ветер мертв - это бесцельно движущийся куда-то воздух. Верх будет мой. Я вынесу. Но почему мне было так нехорошо? Ах да, от голода. Ведь я живое существо. Я все преодолею".
Он приготовил себе какао - такое горячее и густое от сгущенного молока, что его едва стерпел желудок, привыкший к сухомятке. Ему снова сделалось плохо, но на этот раз он вскочил на ноги и, провальсировав с ящиком в руках, поставил его на пол, чтобы встать на него и уцепиться за стропило. Он семнадцать раз подтянулся, потом лег на пол и выжался двадцать пять раз.
"Я ему задам, я ему задам. Этот проклятый буран не одолеет меня". Ухватившись своими худыми мозолистыми руками за балку, больно резавшую кожу, он почувствовал, как вздрагивает древесина. Он как бы ощутил себя заодно с ветром. Сочувствуя его мучительным усилиям, он твердил:
- Черт с тобой, ветер. Дуй себе на здоровье.
В полночь в хижине стало совсем темно, но Форбэш даже не подумал зажечь лампу. Он с наслаждением прислушивался к ночному рыку, совсем как в детстве, в Крайстчерче, когда он лежал в постели, а за окном выли буйные южные ветры, носившиеся по Кентерберийской степи, раскачивая и сгибая деревья, росшие вокруг дома. Темно. Впервые за много недель ему не нужно натягивать капюшон спального мешка на глаза. Он поудобнее устроился в теплом гагачьем спальнике и вспомнил, как мальчишкой он всегда удивлялся таинству сна, забвения, когда, бывало, вздрагивал при каждом новом порыве ветра и все шире таращил глаза.
Наутро все было по-прежнему. С шипением неслась метель, налетая на южную стену дома; строение все так же содрогалось от ударов бури. В коридоре между наружной и внутренней дверьми намело сугроб высотой в два фута. Убирать снег было некуда: не выходить же наружу. Снегу все прибывало; он начал проникать даже сквозь внутренние двери и инеем ложиться на полу хижины. В течение дня ветер как бы выровнялся. Казалось, ночью ворвались лишь первые его струи, а теперь пришел основной поток; и вот он бушует вокруг хижины, заглушая своим ревом малейший домашний уютный звук, который утешил бы и успокоил человека. Но в реве этом не было ничего, что предвещало бы усиление мощи бурана, и Форбэш снова уснул, по-прежнему охваченный ощущением чуда; уснул он на этот раз мгновенно, потому что шум ветра стал привычной частью его существования.
Снегом замело озеро, глубокие сугробы лежали в ложбинах и выемках Мыса. Тюлениха с берега Доступности увела своего детеныша в море, там им обоим было теплее и безопаснее. Обняв одной ластой свое серое чадо, она высунула из воды лишь глаза и ноздри и размеренно, медленно дышала, всякий раз втягивая воздух с легким вздохом, который заглушали шум и гул ветра, несшегося надо льдом, огибая гроулер, торос и свистя в изгибах трещины, шедшей вдоль берега.
Поморники, свернувшись в клубок, спрятались на подветренной стороне скал; те же из них, кому повезло, кто был свободен и не высиживал птенцов, находились в ста милях севернее. Они спокойно парили, дрейфовали над морем, эти владыки бури.
Пингвины, вконец занесенные снегом, продолжали сидеть на яйцах; эти пленники долга, слепого утверждения продолжающейся жизни пережидали буран со стоическим хладнокровием.
* * *
Форбэш спал. Всякому живому существу оставалось лишь одно: спать, выжидать. Он заставил себя уснуть, когда его оправившееся от шока тело повелело ему вставать и драться, продолжать битву. Сон его явился усилием воли, нарочитого расслабления тела в разгар свирепого бурана. "Спать, я должен переспать буран. Нужно спать. Когда проснусь, будет тихо. Нужно расслабить мышцы и мысли, уйти в себя. В мире от этого ничего не изменится. Я это обещаю. Все останется прежним. Спать. О сон. О покой. О тепло".
Каким голубым и мягким был солнечный свет, проникавший сквозь задернутые шторы его комнаты в бараке на Уиграмской базе королевских новозеландских ВВС, когда он, вернувшись от Барбары, попытался уснуть! До вылета оставалось всего несколько часов. Рядом с ним, в комнатах, похожих на ячейки сот, спали его попутчики, которые скоро должны были проснуться, чтобы распрощаться с Новой Зеландией. Ему не спалось, и утренний бриз, раскачивавший серебристую березу, чьи ветви ударялись о его окно, казалось, ревел столь же громко, возвещая жизнь и плодородие, как и эта свирепая пурга, от которой содрогалась даже его кровать в шеклтоновской хижине. На кой черт он сюда прилетел? На кой черт отправился на юг? На кой черт заполнял все эти бланки, спешил, присоединился к попутчикам, "выдавал" шуточки, был своим в доску парнем, поднимался к завтраку? На кой черт покинул Барбару? К черту солнечный свет и зеленые газоны на базе ВВС! К черту молодые березы, хлеставшие его по лицу, когда он в десять утра бежал вниз по холму, чтобы позвонить ей! К черту минуту, когда он сел в армейский грузовик вместе с остальными, заполнял анкеты, взвешивал багаж в международном аэропорту! К черту ломоту в плечах и ляжках, сердечное томление, охватившее его, когда он лежал в той голубой комнатушке, а солнце вставало, и он знал, что через четырнадцать часов улетит.
* * *
Уходя от Барбары, возле калитки он увидел растоптанный цветок рододендрона, походивший на пятно крови. Ему казалось, что это кровь из его раны. Сердце его открылось перед нею. Он стал так раним, словно был лишен кожи, и в живую плоть его вонзалась щемящая новизна дня. Проснулся он в десять часов от того, что Джон Кинг в соседней комнате исполнял на гитаре какую-то немудреную испанскую мелодию и резким голосом пел. А может, если позвонить, она не захочет его видеть? Но она захотела. Она ждет его к завтраку, как только он закончит свои приготовления к отлету. Он никогда не чувствовал себя таким смущенным.
- Я думал, тебе нужно сегодня идти на работу.
- Я нездорова.
- Ах, вот как... Извини... но тебе действительно хочется?..
- Балда.
- Черт возьми, конечно.
- Этот день для меня важен, как никакой другой.
- Почему?
- Во всяком случае, он будет единственным в своем роде.
- Я тоже так думаю. Послушай, ты очень добра ко мне.
- А я и есть добрая самаритянка.
- Только и всего?
- А чего же ты еще хочешь?
Что у нее на уме? Может, она просто добра по натуре? Некоторые женщины испытывают потребность в доброте. Отдавать - это неотъемлемая часть их жизни.
- Большего я не смею хотеть.
- Почему бы не попытаться?
- Через десять часов я улетаю.
Он выглянул в окно. Рододендрон был обыкновенным деревом с красивыми цветами, которые вырастут и распустятся (а может, и нет?), а потом опадут, завянут и истлеют.
- Что же, по-твоему, мне нужно будет делать?
- Не знаю. Наверное, углублять знакомство. Ведь мы встретились только вчера.
- Пожалуй, ты прав.
В голосе ее прозвучала такая тоска, что он вздрогнул, словно уже вылез из самолета и спускался по крутому шаткому трапу на ледяную посадочную дорожку аэродрома Уильямс-Филдс, а пронизывающий студеный ветер щипал ему ноздри и колол глаза. Он наблюдал за тем, как она резала на кухне помидоры, сдирала шкурку с окорока, насыпала в солонку соль, зажигала газовую плиту. Как у нее все ловко получается... Я ей и в подметки не гожусь. Она года на три-четыре старше, но, похоже, ничуть не задается. У нее такое самообладание.
- Ты мне напишешь? - спросил он.
- Да.
- Я тебе буду писать. Только писем ты получишь не очень много. Не знаю, часто ли я смогу отправлять почту. Но я постараюсь.
- Я это знаю.
- Возможно, напишу что-нибудь забавное.
- Да ну?
- Правда. Когда живешь в тех краях, иногда на ум приходит что-нибудь этакое, забавное. Становишься каким-то взвинченным. В голову лезут всякие мысли.
- Ничего. Напиши, когда тебе захочется.
- Ты не хочешь, чтобы я часто писал?
- Когда тебе захочется. А то забудешь все то, что, по твоим словам, намерен запомнить.
- Нет, не забуду. Но, возможно, я буду писать кое-что странное. Не возражаешь?
- Нет. Пиши обо всем, о чем хочешь. Я не против.
- Отлично. Вот и я буду писать, о чем захочу. - Рододендрон качнулся под порывом ветра, три кроваво-красных цветка упали. - Благодарю.
Она подошла к нему и тоже встала у окна. Он увидел, как свежа весенняя трава.
- Тебе незачем благодарить меня.
Он ощутил тепло ее тела, коснулся пальцами ее мягких волос. Глаза ее смотрели мягко, внимательно, когда она приблизилась. Она показалась ему самой идеальной женщиной, какую только он встречал. Черт возьми. Девять часов. Даже восемь с половиной.