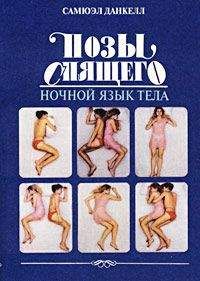Морис Самюэл - Кровавый навет (Странная история дела Бейлиса)
Нервы его не могли переносить страдания вблизи; страдания же на расстоянии, даже когда они были причинены им самим, оставляли его совершенно равнодушным. Иногда он мог вызвать в себе какую-то отдаленную благожелательность, если только его интересы (как он их понимал) не были затронуты; но как только от него могла потребоваться какая-либо личная жертва, или же если ему угрожали вторжением в его внутренний мир, где в центре стояла непоколебимость абсолютной монархии - вся его благожелательность мгновенно испарялась. "Когда ставился вопрос о защите его, ниспосланной ему от Бога власти, говорил Керенский, Николай II сейчас же делался хитрым, упрямым, порой безжалостным человеком".**
Даже коронация его стала символом его царствования и показала, что он за человек. В Москве во время празднеств произошло большое несчастье: полмиллиона людей собрались на Ходынском поле - в предместьи города; они были "царскими гостями" и должны были получить пачки с провизией и сластями; внезапный обвал оград вызвал панику и более двух тысяч человек были задавлены насмерть.
Весть о несчастьи мгновенно разлетелась во все концы города; царь об этом узнал посреди всех празднеств, но не проявил ни малейшей реакции.
Граф Витте в этот день присутствовал на концерте, куда Николай явился через два часа после ужасного происшествия.
(105) Витте записал свой разговор с китайским посланником, уверенным, что царю не доложили и крайне удивившемуся, когда ему сказали, что он в курсе дела. "Роскошный бал", пишет Витте, "был дан в этот день французским послом; он ждал, что бал будет отменен, но, несмотря на несчастье, бал состоялся и Их Величества открыли его кадрилью".
В этот самый час сотни тысяч москвичей толпились в темноте, выискивая среди живых и мертвых своих близких, по мере того, как их находила полиция; Москва никогда не забыла Ходынку.
Можно с полной беспристрастностью предположить, что Николаю особенно важно было, чтобы вечер этот не был испорчен для его молодой жены.
Мы с изумлением вглядываемся в некоторые дневниковые записи царя и не можем решить, на что же они больше указывают - на его легкомыслие, или же на полное отсутствие воображения.
В связи с неудавшейся революцией 1905 г., наделившей Николая Думой (первым русским национальным парламентом, хотя и с ограниченными правами) - во всей стране вспыхнули беспорядки, особенно среди национальных меньшинств. Беспорядки эти были зверски подавлены; местный губернатор одной из прибалтийских губерний пожаловался в Санкт-Петербург на жестокость командующего экспедиционным корпусом офицера, расстреливавшего без суда безоружных людей. Получив донесение, царь записал на полях своего дневника: "Так и нужно! Молодец!".*
Два года спустя было совершено неудавшееся покушение на жизнь Дубасова, генерал-губернатора Москвы. Витте по этому поводу пишет: "Я отправился навестить Дубасова через несколько часов после покушения; он был совершенно спокоен, единственное, что его волновало, это судьба молодого человека, стрелявшего в него. Дубасов прочел мне письмо, написанное им императору, в котором он умоляет его помиловать юного террориста. На следующий день пришел ответ Его Величества, в котором он уведомляет, что не имеет права менять неотвратимый ход правосудия; я едва ли знаю, как это нужно охарактеризировать, иезуитством ли, или мальчишеством".
(106) В виде контраста, после убийства Столыпина произошел и обратный случай: была сделана попытка предать суду старшего офицера охраны в Киеве, обвинявшегося, с вескими основаниями, в преступной небрежности. Но Николай знал его лично и запретил его трогать; он так сказал по этому поводу одному из своих министров: "Я вижу его на каждом шагу, он следует за мной, как моя тень, и я просто не могу видеть
этого человека в таком несчастье".* Но царь своими глазами не видел молодого террориста, или обезумевшую толпу на Ходынском поле; он не видел расстрелянных безоружных людей в Прибалтике или же заколотых, разорванных надвое детей во время погромов (если говорить только об одних детях).
Самый ужасный погром произошел в Гомеле в 1905 году.
Витте умудрился сделать расследование, обнаружившее, что погром был организован тайной полицией; однако вся реакция Совета Министров свелась к предложению уволить одного ответственного чиновника, некоего графа Подгоричного.
Николай, имевший власть над жизнью и смертью своих подданных, написал на полях протокола этого дела: "Все это меня не касается"...**
Однако погромы его касались; когда ему о них докладывали, он говорил, что он всегда будет снисходителен к русским, совершавшим такого рода преступления. И действительно, в Министерстве Юстиции существовали специальные формуляры для такого рода "снисхождений"; нужно было только вписать свое имя в документ и послать его царю для резолюции. И этим способом вышеупомянутый Подгоричный был переведен на другую должность... с повышением!
Нам говорят, что Николай был душой двух Гаагских конференций, созванных в 1907 и в 1912 гг. На этих конференциях были приняты важные решения, касающиеся международного арбитража, правил ведения войны, а также рассматривались возможности всеобщего мира.
Но Николай не предотвратил бессмысленную русско-японскую войну, хотя для этого достаточно было одного росчерка царского пера. Он позволил вовлечь себя в эту войну клике придворных, защищавших свои интересы на Дальнем Востоке (107) и убедивших его, что короткая, победоносная, не разорительная война необходима, чтобы вновь воодушевить народную преданность монарху.
Граф Витте пробует найти качества у царя; усилия его рушатся с самого начала. "Правитель, пишет Витте, на которого нельзя рассчитывать, так как завтра он может аннулировать то, что он утвердил сегодня. Его отличительная черта - бесхарактерность; пусть он и благожелателен, и не глуп, но возможно ли с таким недостатком быть самодержцем русского народа? Трудно удержаться, чтобы не задать себе вопрос: каковы могли быть его достижения при наличии такого недостатка, как бесхарактерность?"
Как мог Витте, человек исключительно энергичный, способный и проницательный, не презирать Николая и как мог Николай не чувствовать неловкости в присутствии Витте, или же какого бы то ни было человека, обладавшего сильной волей и талантом?
"У императора была привычка даже в официальных документах называть японцев "макаками", пишет Витте, англичан он обзывал жидами: "всякий англичанин жид", любил он повторять; Его Величество также заявляло, что русские, в конечном счете, одержали над японцами большую победу".
В общем, определение Витте "царь не глуп" можно приравнять к тому, что принято называть: "не большая умница - но и не малый дурак".
Как мы уже видели, Витте приходил в ужас от восторженной поддержки Николаем таких организаций, как Союз Русского Народа или Союз Архангела Михаила. Но Витте никогда не видел знаменитых теперь дневников Николая, опубликованных после революции 1917 г., ставшими историческими документами исключительной важности.*
Редактор французского перевода этих дневников суммирует их содержание следующим образом: "Маленькие ежедневные записи (самые незначительные и глупейшие наравне с самыми важными и мрачными событиями)", занесенные вперемежку... подробные описания охотничьих трофеев, перечисленные с детским тщеславием в то время, как из Мукдена и Цусимы поступают самые прискорбные донесения. (Под Мукденом (108) японцы разбили русскую армию, а в Цусиме они потопили почти весь русский балтийский флот, посланный чуть ли не вокруг света, чтобы их атаковать.
Вот несколько образцов записей в дневнике царя во время русско-японской войны: "20-ое апреля 1904: во втором часу ночи я отправился на охоту и убил двух фазанов; я вернулся в 5 ч. утра; дождь шел всю ночь, и также в течение дня, но было жарко...".
"...21-ое апреля (после донесения генерала Куропаткина, главнокомандующего на Дальнем Востоке, об особо тяжелом поражении) - Печальные, горестные известия - погода была облачная и дул сильный ветер; я вспоминаю сегодня из моего детства распространенный в нашем кругу каламбур: Куроки был командующим японской армией - мы говорили о Куропаткине: "Куроки пакт ин" - Куроки его ловит (игра слов на немецком языке.).
Читая дневники у меня было странное чувство - какая-то досада, как бывает от неразрешенного вопроса. Однажды вечером я услышал по радио: "не отходите от приемника, сейчас будут передавать сводку о погоде", и тут все для меня прояснилось: во всех тех случаях, когда Николай в своих дневниках не упоминает о погоде, мне смутно казалось, что я был невнимателен и чего-то не дочитал. И я перечитывал во второй раз. "Мама вернулась из Дании; в крепости отслужена была панихида по моему незабвенному отцу; десять лет прошло со страшного дня его смерти и как все теперь усложнилось! Как все теперь стало трудно! - но Бог милостив и, после ниспосланных нам испытаний, последуют спокойные дни" (Николаю тогда было 36 лет).