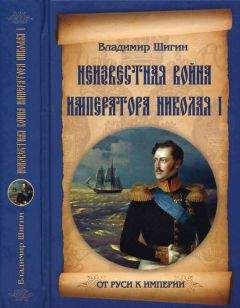Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения
Соколову Милюков дал иное объяснение: министр иностр. дел вернул телеграмму по формальным основаниям – она была отправлена Государю Императору, а Николай II им уже не был… Вильтон, постоянный петербургский корреспондент «Таймс», неосновательно утверждает, что задержка телеграммы Георга V, заключавшей в себе будто бы приглашение Царя в Англию, лишила царскую семью «последнего способа спасения».
На другой день, 13 марта, с некоторым удивлением посол узнал, что представители правительства «еще не говорили с Государем о предполагаемом путешествии, так как им необходимо преодолеть оппозицию Совета[56], а Их Величества все равно не могут уехать до выздоровления детей». Однако никаких мер для преодоления оппозиции в Совете правительство не предпринимало, если не считать гипотетического расчета на время, о котором говорит Милюков, – «предстояло ведь введение деятельности Совета в более нормальные рамки» (статья «Кто виноват»).
Фактически Царь был осведомлен об отсрочки отъезда и, не отдавая себе отчета, был даже рад этой отсрочке. 11 марта он занес в дневник: «Утром принял Бенкендорфа, узнал от него, что мы здесь останемся еще довольно долго. Это приятное сознание. Продолжаю сжигать письма и бумаги» (этим автор занимался и накануне). Отсрочка в сознании заключенных, очевидно, связывалась лишь с оппозицией, которую встретил проект отъезда в советских кругах. Нарышкина так и записывает 13 марта: «Революционная партия не согласна отпустить Государя, опасаясь интриги с его стороны и предательства тайн». В книге, имевшей специальное назначение покончить с легендами и дать «фотографическое» изображение того, что было, Керенский, игнорируя обязательство, принятое правительством перед Исполн. Ком. 9 марта, считая его словно не бывшим, объясняет задержку в отправке царской семьи необходимостью в первые революционные дни дождаться момента наиболее благоприятного в психологическом отношении, когда можно было бы практически организовать поездку: «Во всеобщем хаосе, который царил в первые дни революции, правительство не было еще окончательно хозяином в административной машине: пути железнодорожного сообщения в особенности находились в полном распоряжении всякого рода союзов и советов. Было невозможно перевезти Царя в Мурманск, не подвергая его серьезной опасности. В течение переезда он мог попасть в руки «революционных масс» и оказаться скорее в Петропавловской крепости и, еще хуже, в Кронштадте, чем в Англии. Могло быть еще проще: вспыхнула бы забастовка в момент отъезда, и поезд не отошел бы от станции. «Первые дни» затянулись и превратились в недели. Английскому послу на его настойчивые запросы[57] отвечали: «По состоянию здоровья больных великих княжен нельзя предпринять решительно ничего» по поводу выезда, и посол сообщает в Лондон, что еще «ничего не решено относительно отъезда в Англию» (19 марта). «Здоровье великих княжен» становится почти формальной отпиской, как об этом можно судить по дневнику Царя. По существу вопрос остается открытым. Жильяр со слов, правда, Наследника, записал, что Керенский при первом свидании с Царем 1 марта очень обще говорил об отъезде семьи: «Когда, как, куда? Он сам об этом хорошенько не знал и просил, чтобы об этом не говорили».
23 марта Царь записывает: «Разбирался в своих вещах и в книгах, и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уехать в Англию». 27 марта Бьюкенен осведомляет Лондон о своем разговоре с Керенским, который просил его не производить давления с целью ускорить возможность отъезда, так как «Царь не в состоянии выехать в Англию в течение ближайшего месяца, пока не будет окончен разбор взятых у него документов». Нельзя не признать, что заявление Керенского находится в полном противоречии с той цитатой из «La Veritй», которая была проведена. Здесь следует остановиться и предварительно расшифровать заявление министра, сделанное английскому послу в достаточно дипломатической форме. Только раскрытие всех внутренних связей может объяснить затяжку с отъездом царской семьи, которого так желало Времен. Правит. и на котором так настаивало правительство английское.
В изображении быв. министра иностр. дел нить переговоров неожиданно оборвалась, и проект переезда царской семьи за границу сразу падает потому, что изменилась точка зрения английского правительства.
Когда Милюков «через некоторое время» (мы видим, что за истекшее время министр иностр. дел был в довольно оживленных сношениях с послом, вызванных настойчивой инициативой именно посла) спросил Бьюкенена, что делается для посылки условленного крейсера для перевозки царской семьи, он услышал от него неожиданный ответ: «Английское правительство не настаивает больше на своем предложении. «Память не могла мне изменить в этом случае», – писал Милюков, в 36 г. возражая Коковцеву[58]. Весь вопрос, когда именно и при каких условиях произошел этот отказ. Именно этого самого важного память Милюкова не зафиксировала. Он поспешно присоединяется к версии, устанавливаемой разоблачением дочери Бьюкенена, которая утверждала в книге «Развал Империи» (32 г.), что отец не получил сакраментальную телеграмму из Лондона 10 апреля нового стиля, т.е. 28 марта по русскому счету, – таким образом, на другой день, когда коллега министра иностр. дел осведомил английского посла, что Царь не сможет выехать раньше месяца. (Зачем нужно было мин. иностр. дел при таких условиях настаивать на скорейшем прибытии «условленного крейсера»?) Эта телеграмма, как передает дочь посла, не заключала прямого отказа – рекомендовалось лишь послу «отговорить императорскую семью от мысли приехать в Англию…»
Всей этой истории мы еще коснемся, и с большой очевидностью увидим, что в действительности правительство при своей колеблющейся политикой само оставалось как бы в неведении относительно окончательного решения, которое всецело ставилось в зависимость от результатов расследования, предпринятого учрежденной при генерал-прокуроре Чрезвычайной Следственной Комиссии[59].
Министр иностр. дел, очевидно, счел тогда свои функции по выполнению морального обязательства правительства законченными. Никаких попыток выяснить вопрос и воздействовать на английское правительство проявлено не было. Факт этот как нельзя больше оттеняет ошибочность впечатления французского посла о взволнованности в день ареста бывшего Императора министра иностр. дел революционного правительства, видевшего в отъезде царской семьи не только последний шанс для ее спасения, но чуть ли не всей революции.
Чрезвычайно характерная черта отмечена в воспоминаниях исполнявшего обязанности русского посла в Англии Набокова (брата управляющего делами Времен. Правительства).
«О том, что происходило в России и в частности в Петрограде, несмотря на мои повторные просьбы, мы узнаем только из газет и от случайных проезжих русских, но не от министров… Ни одного письма я от министров не получал… Тесного контакта, откровенного обмена мыслей, таким образом, не установилось…»
Довольно любопытный итог, который подвел впоследствии сам министр иностр. дел. По его мнению, «Времен. Правит. могло бы до момента отказа и должно было бы сыграть более активную роль. Этому помешал его состав». С себя Милюков снимает, конечно, ответственность. Тот, кто будет опираться на действительность «бесспорных исторических фактов», присоединится ли, однако, к индивидуалистическому подходу мемуариста?..
Глава третья РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ
1. Общество и народ
Вырубова рассказывает, что Государь вечером в день возвращения в Царское, окончив свою скорбную повесть о пережитом за истекшие дни, сказал с горечью: «Нет правосудия среди людей». Я взял эту цитату из стилизованных воспоминаний Вырубовой только потому, что ею воспользовался Троцкий для того, чтобы произнести весьма рискованную для себя, как адепта «красного террора», сентенцию. «Эти слова, – написал он, – непреложно свидетельствуют, что историческое правосудие, хотя и позднее, но существует». Историческое правосудие, если таковое существует, никогда не сопоставит с нравственной стороны облик человека, своей ужасной смертью купившего все, подчас невольные, грехи перед страной и народом, со зловещей фигурой сознательного палача – пусть паже «идейного».
Смерть Троцкого от мстительной руки убийцы – прежнего единомышленника – может быть моральным искуплением.
Николай II имел право с своей точки зрения говорить о людской несправедливости. В жизни он пытался руководиться «совестью» – так, как ее понимал. Ему казалось, что он сам ушел от власти, и, быть может, он искренно верил в возможность для себя спокойной, новой частной жизни в кругу семьи[60]. Эта личная двойная драма не могла быть воспринята современниками – обстоятельство, которое положило определенный отпечаток на отношение к бывшему Императору и его судьбе. Революция произошла, как было отмечено, в атмосфере глубокой враждебности к Николаю II и к его жене, – далеко не только в либеральной и демократической среде. И было бы грубым нарушением исторической перспективы эту психологию момента подлаживать под наше позднейшее восприятие. Историк должен, конечно, нарисовать иной облик, далекий от непосредственного представления о нем, какое было до революции. Из воспоминаний Керенского видно, как личные сношения с заключенным изменили взгляды революционера на Царя: «Для меня, по крайней мере, он не является тем не человеческим чудовищем, каким он мне представлялся прежде». Керенский различил человеческое существо под маской Императора «Lа verité». Быть может, это сказано слишком сильно, но передает суть того, что в большей или меньшей степени испытывал каждый из нас, современников погибшего Императора, при ознакомлении с раскрывавшимися перед нами историческими документами. В этом человеке было какое-то личное обаяние (Троцкий, конечно, знал, что только «льстецы» называли его «шармером»). Керенский мог непосредственно подчиниться этому гипнотическому влиянию. Об удивительных синих глазах говорила не только жена в письмах, но и многие другие, в том числе и Керенский. Бьюкенен отмечал необычайное природное обаяние Императора.