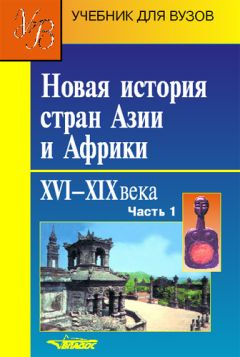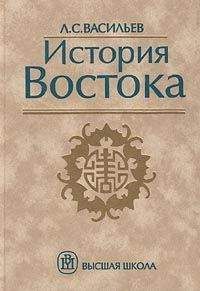Лев Гумилев - Зигзаг истории
На это сторонники монизма возражали теорией, согласно которой сатана был создан чистым ангелом, но возмутился и стал творить зло по самоволию и гордости. Но эта концепция несовместима с принципом всеведения Бога, который должен был предусмотреть нюансы поведения своего творения, и всемогущества, ибо, имея возможность прекратить безобразия сатаны, он этого не делает. Поэтому теологи выдвинули новую концепцию: дьявол нужен и выполняет положенную ему задачу, а это, по сути дела, означало компромисс Бога и сатаны, что для людей, безразличных к вере, было удобно, а для искренне верующих — неприемлемо. Тогда возникли поиски нового решения, а значит, и ереси.
В 847 г. ученый монах Готшальк, развивая концепцию Блаженного Августина, выступил с учением о предопределении одних людей к спасению в раю, а других — к осуждению в аду, вне зависимости от их поступков, а по предвидению Божию в силу его всеведения. Это мнение было вполне логично, но абсурдно, ибо тогда отпадала необходимость что-либо делать ради своего спасения и, наоборот, можно было творить любые преступления, ссылаясь на то, что и они предвидены Богом при сотворении мира. Проповедь Готшалька вызвала резкое возмущение. В 849 г. по поводу ее возникла полемика, в которой принял участие Иоанн Скот Эригена, заявивший, что зла в мире вообще нет, что зло — это отсутствие бытия, следовательно, проблема Добра и Зла вообще устранялась из теологии, а тем самым упразднялась не только теоретическая, но и практическая мораль.
Мнение Эригены было осуждено на поместном соборе в Валенсе в 855 г.. [2, с. 62–65] Собор высказался в пользу учения Готшалька и с презрением отверг «шотландскую кашу», т. е. учение Эригены, которое квалифицировали как тезисы дьявола, а не истинной веры. [2, с. 62–65] Но ведь в обоих вариантах зло, как метафизическое (сатана), так и практическое (преступления), реабилитировалось. Готшальк считал источником зла божественное предвидение, а Эригена предлагал принимать очевидное зло за добро, так как «Бог зла не творит».
Итак, теоретически проблема Добра и Зла зашла в тупик, а практически Римская церковь вернулась к учению Пелагия о спасении путем свершения добрых дел. Такое решение было отнюдь не сознательным отходом от взглядов Блаженного Августина, а скорее, инстинктивным, воспринимаемым интуитивно и дававшим практические результаты естественную мораль. Но если пелагианство удовлетворяло запросам массы, то не снимало вопроса о природе и происхождении зла и сатаны, упомянутого в Новом Завете неоднократно. Неопределенность тревожила пытливые умы молодых людей всех наций и сословий.
Не то чтобы они искали в философии и теологии способ обогащения или социального переустройства; нет, им требовалось непротиворечивое мировоззрение, которое объединило бы их жизненный опыт с традицией и уровнем знаний того времени.
В самом деле, годилось ли для людей IX в., одаренных пылким воображением при привычке к конкретному мировосприятию, описание Бога, как «непостижимости», которая не знает, что она есть. По отношению к предметам мира — Бог обозначается как небытие, — или как монада, не имеющая в себе ни различия, ни противоположения; в отношении к бытию идеальному — как причина всех вещей, обретающих форму; по отношению к своей непостижимости — как «божественный мрак».
А как могли монахи обители Мальмсбери, где Эригена был настоятелем, молиться «мраку», который их и услышать-то не может? Они не могли не усмотреть в учении своего игумена кощунство и в 890 г, по вполне недостоверной, но весьма показательной версии, убили его собственной чернильницей. Но и после этого больные вопросы не были сняты Разочаровавшись в возможностях схоластики, которая в X в. переживала очередной упадок, средневековые богоискатели искали решения проблемы вне школ и получали ответы от приходивших с Востока (с Балканского полуострова) манихеев, или, как их называли, катаров (чистые)[прим. 53]. Зло вечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи; следовательно, все материальное — источник зла А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению. Самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство, но они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение, со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения души предлагалось другое изнурение плоти либо аскезой, либо неистовым развратом, после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. Только эта цель признавалась манихеями достойной, а что касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя — зло, то любое истребление ее — благо, будь то убийство, ложь, предательство… все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено.
В учении о предопределении, т. е. об ответственности за свои грехи, наиболее актуальном для того времени, катары совмещали августинизм Готшалька и космологию Эригены. Они отрицали свободу воли у человека и делили людей на сотворенных добрым и злым богами. Первые могут сделать зло лишь против воли, и, следовательно, грех не вменяется им в вину, а может только отсрочить их «возвращение домой». При этом они постулировали пресуществование душ и метампсихозис. Этим «возвращением» они смыкаются с космологией Эригены с той лишь разницей, что последний отрицал злое начало; зато он называл Бога — «божественный мрак», так что неясно, кому он поклонялся: Богу или сатане? С точки зрения его учеников — монахов логичнее было второе решение, так как «божественный мрак» (несотворенное и творящее) принимал в себя обратно не свою эманацию, т. е. идеи (сотворенное и творящее), и невидимые вещи, наполняющие мир (сотворенное и не творящее), а неупокоенные души мертвецов (не сотворенное и не творящее), т. е. попросту «нежить», вампиров, которых люди боятся и которые имеют псевдосуществование при злой (для людей) активности. Переводя эту дилемму на язык современных понятий, можно сказать, что в возникшей системе представлений роль дьявола играл вакуум, который, как известно, при столкновении с материей весьма активен, хотя без нее лишен существования. Но поскольку живое воображение людей того времени требовало персонификации и доброго и злого начала, то катары объединили злого бога с богом Ветхого Завета — Яхве, переменчивым, жестоким и лживым, создавшим материальный мир для издевательства над людьми.
Но тут средневековый христианин сразу задавал вопрос: а как же Христос, который был и человеком? На это были приготовлены два ответа: явный для новообращенных и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что «Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде. Он не имел надобности ни в чем земном, и если он видимо ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал, случая погубить «Избавителя». Однако для «верных» (так назывались члены общины) предлагалось другое объяснение: «Христос — творение демона: он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в небесном Иерусалиме». [47, с. 194–195]
Довольно деталей. Нет, и не может быть сомнений в том, что манихейство в Провансе и Ломбардии не ересь, а просто антихристианство и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII в. такой грандиозный успех. Экзотической была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательной. Кроме того, манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в разной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только иногда спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые губительные удары.
Ради успеха пропаганды своего учения катары часто меняли одежду, проникая в города и села, то как пилигримы, то как купцы, но чаще всего как ремесленники-ткачи, потому что ткачу было легко попасть на работу и завязать нужные связи, самому оставаясь незамеченным. Отсюда видно, что здесь не классовое антифеодальное движение масс, а маскировка членов организации, объединенной властью манихейского «папы», жившего, как говорили, в Болгарии.