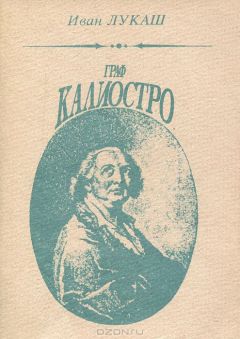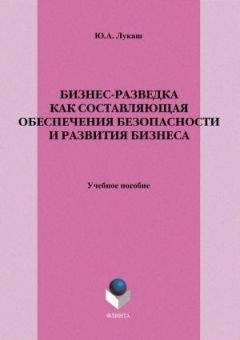Иван Лукаш - Бедная любовь Мусоргского
- Будешь, будешь ...
Анисим не услышал, но ответил с кроткой улыбкой:
- И я думаю, буду...
К вечеру Анисим ушел. На столе в прихожей, подле медного подсвечника, Мусоргский после его ухода увидел серебряный рубль. Солдат пожалел молодого барина, запущенного, побледневшего, без верной руки и оставил ему на прощальную память свой береженый рубль.
В Петербурге уже начались белые ночи, когда так пусто и страшно звенит гранит набережных и серебриста и пуста полумгла над погасшими домами, крепостью, Невой.
Мусоргский, усталый (его томило бездыханное беззвучие беловатой мглы), бродил до утра по трактирам. Он пил мало, больше следил за мельканием измученных, бледных, по пьяному несчастных человеческих лиц.
Он думал, что все, и он, люди без имени, отребие земли, приходят и сходят, как нагромождения теней в мерцающем сумраке; никто и не вспомнит их имен, их лиц, а все хотят для себя какого-то неиссякаемого бытия, вечности. В пьяном шуме, и помутнении вина, томятся все, ищут забвения.
На улице, он долго смотрел, как дремлет извозчичья лошадь, и дрожат во сне ее ноги, искривленные ревматизмом. Он стоял, прислонившись к стене, у водосточной трубы, и следил с невыносимой жалостью, в беззвучно-ползучем сумраке, за тощей черной кошкой, пробирающейся из подвала в подвал. Звери тоже ищут забвения, утешения, но звери счастливее, им дано больше сна: кошки всегда в полудремоте. А вот люди ищут забвения в вине.
"Бог простит, - думал он, - Бог простит всех пьяниц, какие есть на свете".
Под утро он ложился у себя, на диван, как был, в слегка влажной шинели, не снимая сапог.
Чтобы заснуть, он начинал быстро отсчитывать сотни, тысячи. И не засыпал. Он сбивался, считал снова:
- Тысяча пять, тысяча шесть ...
Потом вместо цифр, начинал повторять, отсчитывать то, что всегда стояло в нем, давило несдвигаемым молчанием:
- Анна, Анна, Анна ...
Неповоротливое, безысходное бешенство налегало на него, как каменный жернов и он с глухим исступлением начинал проклинать кого-то, себя, всю жизнь, смерть, вечное отчаяние, разрушение, весь мир, навеки разъятый тьмой противоречий.
Потом ему казалось, что он лежит в шинели на диване не наяву, а в тяжелом полусне, между сном и явью.
Все то же, как и наяву, - беззвучная мгла, его кабинетец, - и все не то. Все изменено, ужасно, громадно, Его письменный стол навеки повис в мутной бездне, и он сам, со своим диваном, навеки заключен в застенок,
Тогда, ища защиты, спасения, он переступал по тюфяку грязными сапогами, прижимался лбом к черному образу Серафима. В столе от давнишней заутрени была красная свеча. Он зажигал свечу, водил по иконе, вглядываясь в Серафима, и дорожка копоти чернела на красном ангельском плаще.
Лика Серафима он не видел, точно лик вынули и на месте его осталась черная пустота. Он понимал, что снится, что он не брал свечи из стола, и нет у него вовсе никакой красной церковной свечи, и хотел отступить от темного лика, бежать, проснуться, и не мог.
Спал и кричал во сне невнятно, мучительно, и от своего крика просыпался.
В одну ночь, когда он так, с холодным влажным лбом, боролся с давящей полуявью, тихий звонок подрожал у дверей. Начинается сумасшествие, длятся испытания невыносимого сна. Это звонок из сна, или из другого, терзающего полубытия, куда он перенесен.
Звонок дрогнул снова. И он понял, что из иного бытия пришла за ним Анна. Нездешняя Анна Манфред стоит за его дверью, вот тронула неживой рукой звонок, и у нее, как у Серафима, нет лица, вынуто, тьма на месте его.
Ему страшно было смотреть на болтающийся в полутьме колокольчик.
Он тихо стал поворачивать в замке ключ, придерживая дверь. А с другой стороны кто-то тихо пошевелил ручку.
- Аня, ты, - шептал он, - Аня...
- Отворите, - послышался глухой голос.
На площадке стоял высокий незнакомец. Мгла стерла его руки и ноги, он точно зыбился. Это был носатый, тощий человек, дурно выбритый, с вваливщимися щеками, в темном пальтишке, накинутом на ночную рубаху, застегнутую на шее, где выпячивалось адамово яблоко, медной запонкой.
- Кто вы, что вам надо? - спросил Мусоргский, подумал: "это сон снится, все сон".
- Я так, никто, - прошептал незнакомец. - Извините, что побеспокоил.
- Никто, - повторил Мусоргский.
- Для вас, конечно, никто. Я верхний жилец.
- Верхний жилец.
- Ну да, над вами ... Извините, мне от вас все слыхать, и когда вы стали так кричать по ночам, я и пришел.
Верхний жилец, существо сверху, невидимое, сопутствующее ему всегда, тот, кто вечно ходит над ним, у кого отсчитывается вечное время.
- Так вот вы какой. Вы, вероятно, в туфлях? - неожиданно и тихо сказал Мусоргский.
- В туфлях, а что?
На тощих ногах (незнакомец был в одном исподнем белье), Мусоргский заметил суконные черные туфли.
- Это все сон, правда, и что у вас туфли, тоже сон?
- Зачем же сон? .. Измучены вы, я и пришел, может, могу чем помочь.
- Спасибо, мне ничего не надо. Так вы верхний жилец?
- Верхний. Что вы, право? - незнакомец слабо улыбнулся, и, прикрывая жилистой рукой шею, легонько, с хрипцой, покашлял.
- Войдите, - сказал Мусоргский.
В прихожей он зажег свечу, от которой стало темнее и понятнее, что еще стоит глубокая ночь.
Мусоргский молча рассматривал человека. Лоб в крутых морщинах, еж стриженый коротко, по лицу, по рукам, по выражению глаз видно, что человек из простонародья.
- Вы, значит, сверху. А кто подо мной?
- Под вами никого. Там на ночь уходят. Там тоже мастерская, беличьи шкурки режут, и красят, известно, дамские наряды.
- Так у вас мастерская?
- Мастерская. Я балетные туфли шью.
Это было так внезапно, так странно, что Мусоргский усмехнулся:
- Балетные туфли. Хорошо придумали... И вот, я вас вывел, наконец, из терпения и вы пришли ...
- Зачем, из терпения. Ничего. А только, верно, я вашу жизнь, можно сказать, слышал, и потому понимаю: очень вы мучаетесь теперь. Так вы пропадаете. Нельзя. Вам ее забыть надо. У меня тоже жена была, Олимпиада. На ялике через Неву ехала, подул ветер, ялик перевернулся. Двадцатый год всего шел. Забыть надо, вот...
"Это мои мысли, забвение - утешение, а его нет, это я сам с собою во сне толкую", подумал Мусоргский, сказал:
- Но почему ялик, Олимпиада? Зачем, простите, вы все это рассказываете, зачем пришли ко мне?
- Извините, если помешал, - скромно сказал человек, собираясь встать. Помочь желал, чем могу ...
- Куда же вы, я не гоню... Вы, правда, балетные туфли шьете?
- Правда. Я на всю Россию первый мастер.
- Как странно и любопытно, балетные туфли... Но причем же тут балетные туфли?
- Вы изволили спрашивать о балетных туфлях, я отвечаю. Это верно, извольте и в балете спросить мастера Илью Васильева Селиванова, все скажут: первый. У меня носок особый. Носок в балетной туфле и выгиб, самое главное. У меня свой сплав для носка найден, чтобы танцовщице стоять, пируэт ли, полет, известно, что в их танце полагается. Вы, образованный, лучше знаете.
- Вы говорите, носок?
- Самое главное. Во всем свете только и есть мастеров по балетной туфле: два итальянских, - как их? - Николини и Пардчелли, да двое во французах, думаю, лет сто их мастерская работает, имена Кре и Гальен. А наши меня предпочитают: "твои, Илья Васильев, всех выше". Вот и выходит, я пятый мастер на свете по балетной туфле, а на Россию так первый.
- Вы, выходит, художник?
Неожиданная и странная беседа влекла Мусоргского.
- Зачем художник, я мастер. А мастерство, верно, тонкое. Тут надо косточку живую не упустить, отгадать в башмачке атласном сплав особливый ...
Верхний жилец с уважением к своему ремеслу (так простолюдины всегда говорят о ремеслах и знаниях) растолковывал Мусоргскому, чем итальянский балетный башмак лучше французского и чем всех их лучше его, русский.
К утру они стали друзьями и Мусоргский, провожая мастера Илью Васильевича, шутливо сказал:
- Да вы мне настоящее утешение, посланное свыше, и тема: победа духов света над шабашем духов тьмы...
Но мастер Селиванов, кажется, не понял.
А дня через два Мусоргский, к рассвету, когда уже заперли "Яр", шел с Петербургской стороны Петровским парком. Он был в расстегнутой, потрепанной шинельке, на его тонких башмаках полопалась кожа, он не замечал теперь ни себя, ни своей жизни, потому что вся его жизнь стала ожиданием неминуемой, неотвратимой встречи с Анной.
Предутренний ветер рябил Неву. С деревьев капало, голые ветви скрипели. Тысячи холодных звуков дождя наполняли воздух.
Он шагал, не замечая, по лужам. Утренняя дрожь пронимала его. У Тучкова моста, на откосе, сидел на перевернутой шлюпке речной сторож, жестокоусый старый солдат в кепи и в накинутой шинели, курил носогрейку. Мусоргский рассеянно посмотрел на него сверху, с моста, и прошел на Васильевский.
А за шлюпкой, по которой текли струйки утреннего пара, на мокрой земле, у самой воды, лежала утопленница. Ее и сторожил солдат.