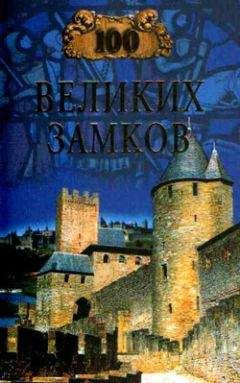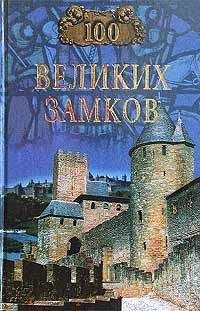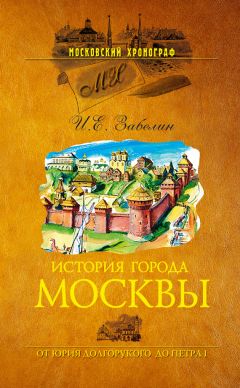Вольдемар Балязин - Ордынское иго и становление Руси
Опорой Софьи были и ученые монахи-греки, замещавшие в московской епархии немало важных мест. Были среди них и переписчики книг, и купцы, и мастера – литейщики, ювелиры, лекари.
Софья привезла с собою книги, которых в Москве было очень мало, и это заставило считать ее просвещенной государыней. А так как сочинения эти были главным образом церковными, то к ее репутации прибавилось и то, что стала она слыть велемудрой и благочестивой.
Греки очень скоро почувствовали себя в Москве лучше, чем дома, став повсюду своими людьми. Православные – они были желанными собеседниками московских священников, видевших в них носителей древлего благочестия, почитавших в них свет афонской благодати. Держали их в почете и у торговых людей, не бывавших дальше Сурожа в Крыму да Казани на Волге. Книгочеи и грамотеи, стали они толмачами и писцами у думных государевых дьяков, вершивших дела с иноземцами. Цифирные и численные, знали они лучше многих русских ремесло денежных менял, искусство сбора податей, дела мытные да ростовщические.
Следует иметь в виду, что иноземная колония в Москве была тогда очень невелика. Если не считать служилых татар и выходцев из Литвы и Польши, несших чаще всего военную службу, то представителей других народов можно было перечесть по пальцам.
Приезжавшие и уезжавшие купцы оказывались в Москве ненадолго и, распродав привезенный товар, а затем купив новый, отправлялись каждый своей дорогой.
При дворе великого князя оставались служить мастера Монетного двора и Оружейной палаты – чаще всего немцы и итальянцы, врачи и аптекари – немцы и евреи, переводчики-толмачи – люди разных наций, и государевы зодчие – чаще всего «фрязи», выходцы из «Фряжской страны» – Италии.
Все эти люди, кроме евреев, были католиками, и русские, называя их «латыне», хотя и видели на них крест, христианами их не признавали, ибо кроме православных греков и южных славян не было для русских истинных христиан.
А греки – и из Византии, и с Пелопонесса – оказались мастерами на все руки и потому стали своими среди всех: и русских и иноземцев.
Софья Фоминична вскоре после приезда стала недужить близорукостью и худо слышать, и они, ее слуги, стали для своей госпожи и глазами ее и ушами. И благодаря им никто во всем государстве Московском не знал больше, чем она.
Вскоре всезнающие и вездесущие слуги стали рассказывать Софье Фоминичне о приближенных великого князя, о первых сановниках государства – администраторах и воеводах.
И почти сразу отметила она среди московских бояр знатных, богатых и многочисленных потомков тогда уже легендарного вельможи Андрея Ивановича Кобылы, появившегося в Москве за два века до нее, и коих звали теперь Захарьиными или же по-старому – Кошкиными.
Знакомство с Захарьиными-Юрьевыми – будущими Романовыми
А когда Софья перезнакомилась со всеми важнейшими сановниками, узнала она и то, что, по семейному преданию, были они выходцами из «прусской земли», откуда вели свою родословную многие знатные русские фамилии. Чаще это было чистым баснословием, иногда же – полуправдой и крайне редко – истиной.
Захарьины-Кошкины считали основателем своего рода Андрея Ивановича, прозванного Кобылой, откуда и потомки его в стародавние времена стали известны как Кобылины. Андрей Иванович Кобыла оставил пять сыновей, младший из которых – Федор носил прозвище Кошка, его же дети назывались Кошкиными. Почему? Потому что у Чудского озера стояли два городка и один из них назывался Кобылин, а второй – Кошкин. И тогда имена Кобылы и Кошки следует производить не от прозвищ, а от названий принадлежащих им городов, так же как и в случае с князьями Шуйскими – из Шуи, Воротынскими – из Воротынска, Ярославскими – из Ярославля, Вяземскими – из Вязьмы и т. п.
Не менее правдоподобно истолкование прозвища Кобыла от имени отца Андрея, которого до приезда в Россию звали Гланда-Камбила Дивонович. Он был князем одного из литовских или прусских племен и бежал из своих владений не то из-за нападений Тевтонского ордена, не то из-за междуусобных распрей, вспыхнувших в литовских землях после смерти Великого Литовского князя Миндовга, когда в Новгороде и Пскове оказалось до трехсот семей вынужденных изгнанников, так что даже одна из улиц Новгорода стала называться Прусской.
Тогда по созвучию с именем отца Андрея – Камбила – русские могли прозвать и сына Кобылой, а отчество «Иванович» он получил после того, как Гланда-Камбила Дивонович обратился в православие и при крещении получил имя Иван.
Позднее Романовы утверждали, что их предок возведен в сан боярина чуть ли не самим родоначальником московских князей – Даниилом Александровичем, родным сыном Александра Невского. Имя этого предка было Федор Кошка, и он был ближайшим сподвижником Дмитрия Донского, который, отправившись на Куликово поле, оставил боярина Федора Андреевича «блюсти град Москву и охранять великую княгиню и все семейство его».
А через одиннадцать лет выдал Федор Кошка одну из своих дочерей, Анну, за сына Великого князя Тверского Михаила Александровича – Рюриковича, одного из могущественнейших русских князей. Сына Михаила Александровича звали Федором, который по принадлежавшему ему городу Микулину, расположенному в сорока верстах от Твери, назывался князем Микулинским.
Следующим знаменитым государственным мужем из потомства Андрея Кобылы был Иван Федорович Кошкин – наместник Новгорода Великого, боярин и казначей Великого князя Московского Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского.
Каждое новое поколение Романовых все теснее роднилось с Рюриковичами: внучка Федора Кошки, Мария, стала женой князя Ярослава Владимировича Боровского – прямого потомка Ивана Даниловича Калиты, дочь Марии и Ярослава Боровских была великой Московской княгиней – женой Василия Темного. А их сыном и был муж Софьи Палеолог – великий князь Московский Иван III Васильевич.
Обо всем этом не сразу, но зато с возможно полною достоверностью и узнала Софья Фоминична.
Родство было наиболее верным средством занять при дворе видное положение, и потомки Федора Кошки использовали это благоприятное обстоятельство как могли.
При Василии Васильевиче Темном, коего числили уже по монаршему счету Василием II, был боярином и родственник Великой княгини, доводившийся Федору Кошке внуком, Захарий Иванович Кошкин. А когда Софья Палеолог приехала в Москву, боярами ее мужа были сыновья Захария Ивановича, коих именовали уже не Кошкиными, а звали по имени их отца – Захарьиными.
Сыновей Захария Ивановича звали Юрием и Яковом, и они стали родоначальниками двух ветвей родословного древа Захарьиных – Захарьиных-Юрьевых и Захарьиных-Яковля. Именно Захарьины-Юрьевы впоследствии подарили России новую правящую династию – Романовых.
В. О. Ключевский о Софье Фоминичне
«Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра его соседа, великого князя тверского, Марья Борисовна. По смерти ее (1467 г.) Иван стал искать другой жены, подальше и поважнее. Тогда в Риме проживала сирота племянница последнего византийского императора Софья Фоминична Палеолог. Несмотря на то, что греки со времени флорентийской унии сильно уронили себя в русских православных глазах, несмотря на то, что Софья жила так близко к ненавистному папе, в таком подозрительном церковном обществе, Иван III, одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 г. Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма важное значение. Бояре XVI в. приписывали ей все неприятные им нововведения, какие с того времени появились при московском дворе. Внимательный наблюдатель московской жизни барон Герберштейн, два раза приезжавший в Москву послом германского императора при Ивановом преемнике, наслушавшись боярских толков, замечает о Софье в своих записках, что это была женщина необыкновенно хитрая, имевшая большое влияние на великого князя, который по ее внушению сделал многое. Ее влиянию приписывали даже решимость Ивана III сбросить с себя татарское иго. В боярских россказнях и суждениях о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения, руководимого недоброжелательством. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама и что понимали и ценили в Москве. Она могла привезти сюда предания и обычаи византийского двора, гордость своим происхождением, досаду, что идет замуж за татарского данника. В Москве ей едва ли нравилась простота обстановки и бесцеремонность отношений при дворе, где самому Ивану III приходилось выслушивать, по выражению его внука, „многие поносные и укоризненные слова“ от строптивых бояр. Но в Москве и без нее не у одного Ивана III было желание изменить все эти старые порядки, столь не соответствовавшие новому положению московского государя, а Софья с привезенными ею греками, видавшими и византийские, и римские виды, могла дать ценные указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены. Ей нельзя отказать во влиянии на декоративную обстановку и закулисную жизнь московского двора, на придворные интриги и личные отношения; но на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслам самого Ивана. Особенно понятливо могла быть воспринята мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров. Потому Софья ценилась в Москве и сама себя ценила не столько как великая княгиня московская, сколько как царевна византийская. В Троицком Сергиевом монастыре хранится шелковая пелена, шитая руками этой великой княгини, которая вышила на ней и свое имя. Пелена эта вышита в 1498 г. В 26 лет замужества Софье, кажется, пора уже было забыть про свое девичество и прежнее византийское звание; однако в подписи на пелене она все еще величает себя „царевною царегородскою“, а не великой княгиней московской. И это было недаром: Софья, как царевна, пользовалась в Москве правом принимать иноземные посольства. Таким образом, брак Ивана и Софьи получал значение политической демонстрации, которую заявляли всему свету, что царевна, как наследница павшего византийского дома, перенесла его державные права в Москву как в новый Царьград, где и разделяет их со своим супругом».