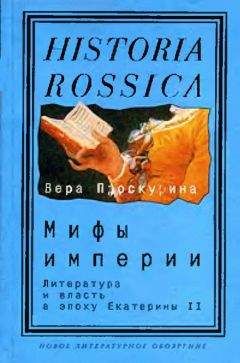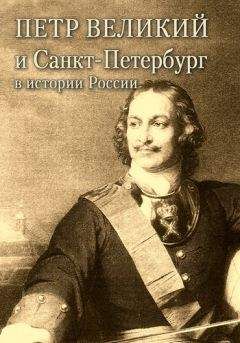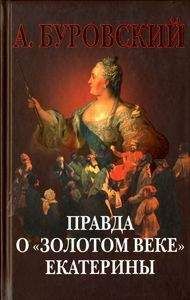Александр Бушков - Екатерина II: алмазная Золушка
Короче, снова неизвестность! Все писано вилами по воде, построено на песке…
Знатных гостий приодели как следует — и повезли в Москву. Уже неподалеку от Белокаменной произошел несчастный случай. Открытые дворцовые сани, запряженные шестнадцатью резвыми лошадьми, во весь дух проносились по какой-то деревеньке — и, раскатившись на повороте, ударились об угол дома. С крыши сорвались два тяжелых железных бруса и рухнули — и обрушились прямо в сани!
Двоих гвардейцев Преображенского полка, сидевших на козлах, форменным образом снесло, разбило головы. Иоганну задел конец одного из брусьев — но богатая шуба смягчила удар, и герцогиня нисколечко не пострадала. Что до Фикхен, ее не зацепило вообще, она даже не проснулась!
В подобных случаях люди прошлых столетий с умным и многозначительным видом изрекали:
— Провидение сохранило этого человека ради будущих великих свершений!
Может, они были совершенно правы?
В тот же вечер Елизавета встречает гостей в Головинском дворце (на деле — этакой деревянной «времянке», на которые был так богат тогдашний придворный быт). Петр Федорович, нарушая этикет, бежит в комнаты гостий и, даже не дав им снять шубы, приветствует «самым нежным образом».
Откуда юноше знать, что это его смерть к нему примчалась на великолепных императрицыных лошадях — молоденькая, очаровательная, раскрасневшаяся с мороза, в невесомых соболях, во всей своей нешуточной прелести…
Но это именно его смерть, а вовсе не долгожданная Фикхен. И никто этого еще не знает…
Иоганне и ее дочери вручают ордена св. Екатерины. Вот теперь не остается никаких сомнений, оправдались все надежды. Софья будет невестой наследника…
И она делает первые шаги при веселом, шалом, во все дни пьяном императорском дворе, где потаенно плетутся самые изощренные интриги, а для всеобщего обозрения звонко лопаются великолепные фейерверки. Бестужев силен, но управа и на него найдется — эту продажную шкуру даже родной брат ненавидит…
Главное свершилось!
Глава четвертая
ЯВНОЕ И ПОТАЕННОЕ
Ах, каким блестящим, пышным и веселым был елизаветинский двор! Быть может, второго такого и не было за всю историю Российской империи…
Давайте не будем заниматься скучными пересказами. Откроем лучше записки французского дипломата графа де ла Мессельера. Очевидец, как-никак…
«Знатные лица обоего пола наполняли апартаменты дворца и блистали уборами и драгоценными камнями. Красота апартаментов и богатство их изумительны; но их затмевало приятное зрелище четырехсот дам, вообще очень красивых и очень богато одетых. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная падением всех стор (штор — А. Б.) темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, отражавшихся со всех сторон в зеркалах. Заиграл оркестр из 80 музыкантов, и бал открылся. Во время первых менуэтов послышался глухой шум, имевший, однако, нечто величественное; дверь быстро отворилась настежь, и мы увидели императрицу, сидевшую на блестящем троне. Сойдя с него, она вошла в большую залу. Окруженная своими ближайшими царедворцами. Зала была очень велика, танцевали зараз по двадцати менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище… бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить ее величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и изящно убранную залу, освещенную 900 свечей; в которой красовался фигурный стол на несколько сот кувертов (столовых приборов — А. Б.) На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета. Кушанья были всевозможных наций, и служители были русские, французы, немцы, итальянцы, которые спрашивали у единоплеменных им гостей, что они желают».
Между прочим, француз описывает самый обычный, рядовой бал — торжества были не в пример пышнее…
Каждый вторник устраивались «машкерады» — такие же балы, но мужчины обязаны были являться на них в дамских платьях, а женщины в мужском наряде. Сама Елизавета была стройной, и ей мужской наряд был как нельзя более к лицу — но не все дамы в нем смотрелись надлежащим образом. Ну, а как себя чувствовали мужчины в платьях, догадаться нетрудно… Скверно.
Екатерина вспоминала об одном из таких маскарадов: «…мужчины вообще были злы, как собаки, потому что не могли справиться со своими гигантскими фижмами, женщины в мужских костюмах были и того безобразней, вполне хороша была только императрица, к которой мужское платье отлично шло».
О том, какие сцены происходили на таких маскарадах, лучше всего расскажет опять-таки сама Екатерина: «Сиверс, тогда камер-юнкер, был довольно большого роста, а надел фижмы, которые дала ему императрица; он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова: она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку; падая, он так меня толкнул, что я упала прямо под его фижмы, поднявшиеся в мою сторону; он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня душил смех, и я пыталась встать, но пришлось нас поднимать, до того трудно было нам справиться, мы так запутались в платье Сиверса, что ни один из нас не мог встать, не роняя двух других».
Совсем молоденькой Екатерине, нет сомнения, было по-настоящему весело — а вот другим вряд ли. Народ в основном был уже в солидных годах…
Придворные, кстати, не имели права вступать в брак без специального разрешения Елизаветы, которая даже назначала день свадьбы — но могла и забыть, а напоминать государыне никто не осмеливался. И женихи с невестами порой ждали годами…
Но вернемся к Екатерине. Она все-таки еще не жена наследника престола… собственно, она еще не Екатерина, а по-прежнему Софья. Не было еще ни крещения, ни даже обручения.
Екатерина с ее острым умом быстро находит нужную линию поведения — она должна как можно быстрее стать русской!
Ей всего пятнадцать, но она, как честно признавалась впоследствии в своих «Записках», прекрасно понимала, каковы ставки в игре. Не обратно же возвращаться в убогий Штеттин после того, как увидела настоящую роскошь?
Она начинает изучать православие у духовника Симеона Тодорского и русский язык у учителя Ададурова. Занимается всерьез, зубрит русский и днем, и ночью — а чтобы не заснуть, расхаживает по комнате босиком, в одной сорочке. И жестоко простужается.
Это не какой-то насморк, а нешуточное воспаление легких. Принцесса София — пока еще София — не пороге смерти. Лечат ее главным образом кровопусканием, которое тогда считалось панацеей от всех болезней. За двадцать семь дней больной пускают кровь шестнадцать раз.
Несмотря на этакое лечение, девушка начинает поправляться. Даже в лихорадке она сохраняет ум и волю: вдруг становится известно, что мать, видя, что дочь совсем плоха, предложила позвать протестантского пастора. Однако София категорически отказывается и просит, чтобы позвали как раз православного отца Симеона — она, мол, уже чувствует себя православной.
Этот случай произвел на русский двор и в первую очередь императрицу самое лучшее впечатление.
Правда, все едва не рухнуло в одночасье…
Принцесса Иоганна, оказавшись при дворе, с головой ушла в политические интриги, завела по тогдашней моде «салон», где стали собираться враги канцлера Бестужева: Трубецкие и Бецкой, пруссаки Брюмер и Мардефельд, французский посол Шетарди. Правда, Шетарди еще как бы не совсем полноправный посол: он обосновался в Петербурге, но верительные грамоты императрице вручать не спешит, охотно объясняя всем и каждому, что на этот ответственный шаг пойдет лишь после того, как Бестужева снимут с должности, а еще лучше — закатают в Сибирь. Вот тогда Шетарди «настоящему» канцлеру и представится…
Одна беда: мастерица плести интриги из Иоганны никакая. В захолустном Штеттине научиться этому высокому искусству было затруднительно. Да и остальные — интриганы не первого сорта. А Бестужев, даром что продажная шкура, интриганом был первоклассным.
Его агенты втихомолку вскрывали зашифрованную переписку французского посла — и, мало того, подобрали к шифру ключик. Бестужев скопировал кое-какие места из писем и пошел с ними к императрице. Удар он рассчитал безошибочно, прекрасно зная, что характер у Елизаветы отнюдь не ангельский…
Политики эти отрывки из перехваченных писем не касались вовсе. Шетарди жаловался в Париж на «лень и легкомыслие» Елизаветы, на страсть к увеселениям, заставляющую ее менять платья по пять раз в день…
Вот это Елизавету взбесило пуще всяких политических интриг! Она так рявкнула на своих министров, что бедолагу Шетарди выслали из Петербурга в двадцать четыре часа — и даже, скрупулезно выполняя инструкции императрицы, выломали и забрали портрет Елизаветы, прикрепленный к крышке золотой с алмазами табакерки, которую она сама незадолго до того подарила французу (саму табакерку, не мелочась, послу оставили).